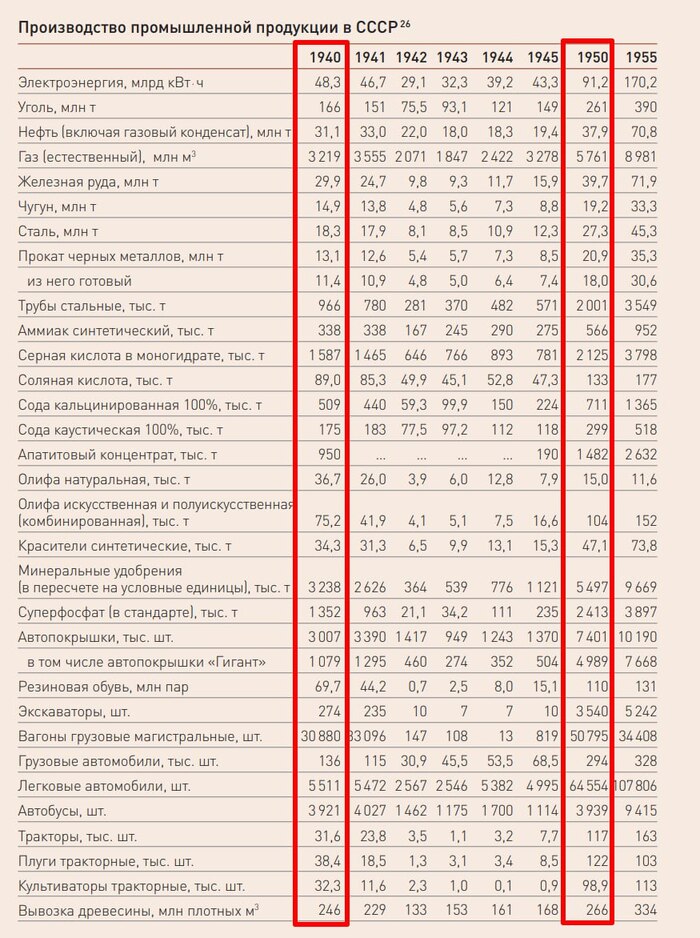Исследование советскими журналистами экономики Магаданской области в 1971 году. Часть 5
Заячий след дороги
Дороги, как и люди, порой имеют громкие имена. О Военно-Грузинской, о Чуйском тракте, о Колымской трассе слышали, наверное, все московские мальчишки,
даже те, для кого самая дальняя дорога пролегла пока лишь от дома до загородной дачи. Никто из старых шоферов не похвастается при случае, что, мол, ездил я, бывало, и по Рязанскому шоссе. Но о работе на Колыме водители не забудут помянуть — и при случае и без случая.
Теперь и мы хорошо понимаем их. Теперь — это после того, как сами проехали более тысячи километров по Колымской трассе: с разными водителями, на разных машинах — от поселка до поселка, от прииска до прииска.
Колыма жива трассой. Это одна из длиннейших в мире автомобильных дорог, которая дерзко петляет меж угрюмых хребтов, по долинам еще не покоренных диковатых рек, уверенно пробирается через безлюдье тайги и тундры. Словно капилляры от артерии, разбегаются от нее десятки ответвлений, пронизывая тело Севера. Красными кровяными тельцами круглосуточно и круглогодично текут по трассе автопоезда, питая Север-Колымский шофер — главный снабженец поселков, заводов, шахт, прикрепленных к трассе, словно гроздья к лозе, и конечно же людей.
О колымских шоферах можно рассказывать и рассказывать. Но интереснее послушать то, что рассказывают они сами. Водители вообще-то не отличаются особой замкнутостью, но где-нибудь на подмосковных или ставропольских дорогах иной раз от пассажиров хочется отдохнуть. На Колымской же трассе пассажир — редкость. Тут можно и сто верст проехать, не встретить ни души, только сопки да реки, только бурундук торопливо перебежит дорогу или где-нибудь на склоне мелькнет в кустах косолапый. И если уж попался пассажир, да еще не «бич» (непутевый, бродяга по-местному), а обычный нормальный пассажир, то хочется отвести душу, покалякать. Не просто все-таки долгими часами одиноко сидеть за баранкой.
С нами колымским шоферам особенно повезло, потому что мы были новичками на трассе, и нам можно было «травить» все подряд — разные истории, которыми знаменита эта дорога. Нам рассказывали, к примеру, почему перевал назвали «Дунькин пуп»: в некие времена, якобы, некая Дунька пускала тут озябших шоферов погреться к себе в избу, ио за это надо было ей насыпать золотишко «на пуп». Или почему другой перевал на Тенькинской ветви трассы называется «Подумай!» — там крутой подъем, а справа обрыв метров двести и дорога петляет, как заячий след. Прежде чем подняться — подумай!
Между двумя очередными перевалами вез нас черноволосый разбитной парень Виктор.
— Вы на Цветном бульваре? Бывал... Трубная? Знаю... Угощайтесь — «Северная Пальмира»... А виадук на Самотеке уже построили?..
Оказалось, столичный таксист. Возил вечно куда-то спешащих москвичей, подсаживал «пиджаков» на Киевском, на Курском. Но однажды с Колымы приехал сосед в отпуск, порассказал с три короба, и три дружка загорелись, ринулись в неизвестность: таксист, электрик и строитель. Сейчас все вместе живут в общежитии, в Спорном.
— Не жалеете?
— А нам везде рай.
— Кто из троих больше зарабатывает?
— Я побольше.
От Сусумана до Ягодного ехали мы с Юрой Вознесенским, можно сказать, местным колымчанином. Здесь вырос, здесь учился, здесь женился. Жена — техник в горном управлении. У них пятилетний сын и девочке год. Эти-то уж стопроцентные колымчане — отдельная двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме, все удобства. Юра оказался отличным гидом.
— Река Берелех,— тоном старожила сказал кто-то из нас, прочитав, что поселок называется Берелех.
— Нет, это река Сусуманка.
— А Сусуман на чем же?
— А Сусуман — на Берелехе...
Попробуй-ка тут разберись в этих колымских шарадах!
— Дорогу до Ягодного за два месяца построили, — рассказывал Юра.— Киркой да тачкой... Сейчас кое-где— видите?—спрямляют, делают трассу короче. А тогда им каждый лишний шаг был мукой — сваливали гравий с горы прямо к себе под ноги, поэтому и трасса жмется к сопкам.
На некоторых сопках — удивительное дело! — чуть ли не до вершины осыпи из готового к укладке, отличного шоссейного гравия. Бери и мости. И все-таки дорожники не очень-то расторопны. Огромные «-Татры», «МАЗы», «ЗИЛы», почти все с прицепами прыгают на ухабах, шоферы чертыхаются, сбавляя скорость. Правда, следы дорожников заметны — там спрямляют, здесь подсыпают. Но мало их, и техники у них, видно, тоже мало.
— Наша сирень! — Юра останавливает машину и собирает на склоне сопки большой букет цветов. Верно, по запаху чем-то напоминает сирень.— А это наша колымская ель,— показывает он на зеленые кусты стланика.— Тут кругом только лиственница, зимой она осыпается, и, кроме стланика, другой зелени зимой вообще нет. Выкапываем стланик из-под снега, привязываем его к шесту, наряжаем, хорошая новогодняя елка получается!..
Недавно в горах выпал снег, и на сопках яркая зелень пробивается сквозь белый покров. Близ поселка Полевой, участка прииска «Бурхала», у ручья берем на память несколько камешков из отвалов — здесь прошла драга, оставив длинный ряд слоеных валов, будто крот рылся. Потом медленно вползаем на Бурхалинский перевал. Многозначительная табличка: «Водитель, впереди четыре закрытых поворота!» Их тут не четыре, а тысяча четыре дьявольских поворота!.. Знаки предупреждают лишь о самых коварных головоломках трассы. Дорога вьется сумасшедше: бросок вправо, через сотню метров— круто влево, еще минута езды — опять вправо, и тотчас же разворот назад, в обратную сторону, при этом все время то спуск, то подъем. Иногда даже сразу не разберешь: кажется, что спускаемся вниз, а глядишь — ручей течет навстречу.
Сверху, с перевала, видно, как далеко внизу работает драга, а чуть поодаль пять бульдозеров идут фродтом, как танки в атаке,— готовят площадку для промывки песков. Побежали карликовые березки, потом вдруг высокие деревья. Тополиная роща на Колыме?
— Ключ Сыганья, курортное место, микроклимат, нет вечной мерзлоты,— говорит Юра.
557-й километр Колымской трассы, 13.00. В Москве сейчас пять часов утра. Но отсюда и Магадан кажется далекой-далекой столицей. Горы слева, горы справа, а между ними аккуратные белые домики.
«Ягоднинцы приветствуют дисциплинированных водителей».
Будь здоров, Юра Вознесенский, спасибо!
А дальше с другим «дисциплинированным водителем»— до прииска «Пятилетка», с третьим — до Спорного, с четвертым — до Оротукана и, наконец, с Толей Муравьевым, гренадерского-роста водителем «МАЗа», с вечера и до рассвета, всю ночь напролет, четыреста километров — до самого Магадана.
Муравьев не опрашивал, кто мы, это не было для него существенно. Людям требовалось подсобить, и он мог подсобить — вот и все. Таков неписаный закон трассы.
— Живем по-братски,— рассказывал Анатолий,— не потому, что шоферы ангелы, нет, народ разный. Но иначе тут нельзя.
Да, эгоизму трудно зацепиться на Севере. Перед всей его давящей мощью люди могут продержаться, а тем паче наступать только плечом к плечу.
Всю ночь напряженный мотор мелко тряс перегретую кабину, стремительно отодвигались назад изломанные повороты, размытые темнотой контуры гор, неясные огни полуспящих поселков. Всю ночь погромыхивал позади прицеп и погромыхивал голос Анатолия. На Колыме Муравьев четвертый год, а до этого служил в армии, в ГДР, был там сверхсрочником, инструктором автодела. В рейс Толя выходит на неделю, не меньше. Гренадер красив, сероглаз, могуч в плечах. Сапоги на нем еще армейские, хромовые. Кожаная куртка. Чуб рыжий, непокорный расческе. Большие руки лежат на штурвале неподвижно, потом одна «а секунду отрывается, вытаскивает пачку сигарет из кармана куртки:
— Спичку дайте.
— Не устал?
— Ничего. Это что! Помню, в середине января шли мы с Хандыги на Депутатский, шесть машин. Метель запуржила. А когда поднялись на перевал, там уже и дороги нет, все замело.
— Вернулись?
— Куда вернешься? Сзади тоже все замело. Ловушка. Да там и в ясный день не развернешься — ухнешь в пропасть. А тут пурга — на полметра ничего не видно.
Мы хотели было тяжелой машиной — «ЗИЛ-157» — пробить дорогу. Куда там! Пробили метров тридцать, не более. Пришлось ночевать.
— Холодно было?
— Да нет, не особенно. Градусов так под 50—55, не более. Только ветер шквальный такой, пронзительный. А когда мороз с ветром, то в кабине не усидишь, тепло
сразу выдувает. Мы все в одну кабину набились. Сидим ночь, потом день, а продуктов нет.
Продукты они рассчитывали взять в притрассовом поселке, но не дошли до него километров 15—20, прихватила пурга. В такую погоду пешком идти — смерть. Ребята двое суток отсидели, а на третьи метель кончилась. Стали вылезать. Черт побери, дверцы не открываются, машины в берлоге, снег выше кабин. Как медведи!
Весь день откапывались. Сначала снег разгребали руками — лопаты-то в кузове! Потом, когда до лопат добрались, стали рыть траншеи. Вот так и шли: откопают лопатами метров тридцать, потом машиной с разгона — бух! И опять откапывают.
— И так до самого поселка? Все пятнадцать километров?
— Нет, километров пять не дошли. Трактор вышел навстречу. Ну, это еще хорошо кончилось!
— Что, бывает хуже?
— Тут у нас чего не бывает!.. По Тенькинской трассы не ездили?
— Нет, только слышали о ней.
— Я раз летом туда девчонку знакомую с собой взял. Так она всю дорогу с закрытыми глазами ехала. А чуть откроет — и в крик. Идешь по Теньке, и такое впечатление, как на птичьем полете -находишься. Идешь и дума
ешь, а вдруг что случится с машиной или рулевым управлением? Колесо рядом с обрывом в двадцати сантиметрах. А иной раз, особенно когда разъезжаешься со встречным, оглянешься — колесо прицепа по воздуху идет. Даже страх берет. Обрыв-то метров двести, однако... Сурово!..
Муравьев из тех, кому нужны и синица в руках, и журавль в небе. Синица: большой заработок — это хорошо. Малым он не удовольствовался бы. Однако опытный шофер почти столько же (с учетом разницы цен) может заработать и на юге. Но вот здесь-то и подымается над головой Анатолия северный журавль — та самая штука, которую хочешь не хочешь, а придется назвать романтикой. Это сложный клубок ощущений и чувствований: повышенный элемент риска, необходимого, по-видимому, в жизни мужчины; обостренное чувство товарищества; понимание своей большой нужности, полезности; наконец, гордость за себя, удовлетворенность героикой, которой так недостает молодым в обжитых местах.
Выражаясь языком экономистов, налицо здоровое сочетание стимулов материальных и моральных.
Толя Муравьев родился в первый год войны. А в последний ее год, в Югославии, погиб Толин отец. Мать, воспитательница детского сада, рассказывала ему, что отец был человеком прямым и смелым.
Нет, жизнь не баловала Толю Муравьева — этого не скажешь. После армии он сначала немного работал в Якутии шофером, как и здесь. Там женился, долгими часами, сидя один в кабине, сочинял для нее нежные-нежные стихи. А жена забрала сына и уехала. Они не поняли друг друга. Она все пилила: почему не учишься на инженера, я — техник, а муж простой шофер — нехорошо. Но Толя никак «е мог уразуметь — почему же нехорошо? Он говорил нам, что на трассе чувствует себя, как птица в полете, что его переполняет ощущение простора. Машина порой кажется ему живой.
— Я прямо кожей чувствую: устала, тяжело дышит или жмет ей где-нибудь, больно.
Он и разговаривает даже с машиной, как с живым существом. Мы то и дело слышали во время нашего ночного путешествия:
— Ну что, мазик, еще сделаем перегон?.. Кормилец!.. Не выдай!..
Мы понимаем Толю вполне: когда человек и машина вдвоем на такой трассе, им остается надеяться лишь друг на друга.
Но в этой привязанности к машине сказывается не только привычка шофера, а еще и поэтическая черточка Толиного характера. И эта дорога, и дружба шоферская— все для него поэзия, о которой чаще всего он говорит, конечно, прозой, но порой и стихами:
Колымская трасса, дорога-тайга,
Уклоны, подъемы, метели, снега,
Ты слабых не любишь,
Для сильных же — вся...
Мы спрашиваем, давно ли он пишет стихи?
— Стихи?— гренадер явно смущен.— Какие там стихи. Так, баловство... Едешь в машине, делать нечего, ну вот и сочиняешь постепенно о трассе. Просто само сочинение такое...
С полчаса едем молча. Потом он снова что-то начинает шептать. Явно видно —не для нас, для себя, по привычке:
Ты в кабине о многом передумать готов,
За перевалом — надежда, за перевалом — любовь...
Но пока что, за очередным перевалом, нас поджидал дождь. Толя Муравьев давно почувствовал его, еще на 301-м километре (счет идет от Магадана) он шумно втянул ноздрями воздух и объявил: «Дождем пахнет». И не ошибся! Капли забарабанили по кабине, ручьи побежали по стеклу, яростно заработали дворники. Водители вообще-то нигде не любят дождь, а на Колымской трассе— особенно. Тут чуть заскользишь — и поминай как звали.
Муравьев пригнулся к рулю, каждым мускулом чувствуя машину. Человек, автомобиль и дорога слились во что-то единое, что нам хочется назвать одним словом — движение.
Муравьев — водитель первого класса, автоинструктор, потому, очевидно, и доверен ему почти новенький пятнадцатитонный «МАЗ-504», на котором Толя «выжимает» ежемесячно четыре тысячи километров. Но все же есть тут шоферы и поопытнее Муравьева — те самые асы, о которых он говорит с нескрываемым восхищением.
Когда, взобравшись на Яблоновый перевал, остановились на минутку, чтобы положить цветы на могилу погибшего здесь связиста, мы подумали о том, как спрессованно время: некоторые участники первой транспортной экспедиции, покорившие этот перевал почти тридцать лет назад и открывшие дорогу на Элекчан — ключ к воротам приисков, до сих пор водят автопоезда по Колымской трассе.
Самый первый колымский шофер — Маркин, отличный механик, погиб в снежную пургу при разгрузке парохода: машины шли тогда по льду Нагаевской бухты Охотского моря. Сверстники и последователи Маркина — Безруков, Бобовский, Пушонок, Самохвалов, Куз-нецов-Морев, Устинович, Черванов, Чернов, Арсентьев и многие другие — большую часть своей жизни ездят по здешним лихим дорогам. А дорог этих в Магаданской области уже более 3000 километров, да еще автозимников — 4000! Все изменилось здесь до неузнаваемости — и техника, и условия работы, только тайга, морозы и горы остались прежними. Все изменилось, и поэтому трудно сравнивать, но одно сопоставление нам хочется сделать: объем грузоперевозок вырос в 1887 раз!
«Валютный цех» денно и нощно требует себе технику, горючее, продукты, одежду, газеты, фильмы, письма. А значит, садись шофер за баранку и веди свой тяжелый автопоезд через крутые повороты, на перевалы, над пропастью, в пургу, веди и в дождь, и в шестидесятиградусный мороз, потому что, кроме тебя, никто не сможет пробиться к добытчикам золота. Нет здесь другого пути, помимо Колымской автомобильной трассы.
«Надо бы как-то разобраться!»
Говорят, если хочешь знать «что к чему» и «что почем»— опроси у шофера. Колымские водители не только угощали нас «байками». Из кабины видны и многие проблемы. И когда Анатолий Муравьев клянет тех, кто прислал ему в общем-то хороший, но непригодный для северных условий «МАЗ», он прикасается, можно сказать, к самой сердцевине этих проблем, их больному нерву.
— Машины присылают с летней резиной. Как ударят морозы градусов под 50—60, резина лопается, скат разлетается на куски. А морозостойкой — мало. Ссоримся из-за нее. Вот с этим надо бы как-то разобраться...
Надо бы как-то разобраться и с тем, почему Толе Муравьеву приходится утеплять кабину, переоборудовать «под зиму» многие системы, ставить дополнительные обогреватели и вообще — мудрить, мудрить... Надо бы как-то разобраться и с тем, почему не только автомобили, но и вся остальная техника приходит на Север в «южном варианте».
Возьмем, например, основную машину золотых полигонов Колымы — бульдозер. Он изготовлен на базе трактора, предназначенного для сельского хозяйства. Мощный на воронежских черноземах, он слабосилен в колымских горах. Как говорили знатоки на областном совещании, для использования на горных работах, тем более «в тяжелых условиях Северо-Востока, он практически непригоден.
Правда, созданы уже опытные образцы новых, более мощных машин. Но для их производства... еще должен быть построен завод в Чебоксарах. А строительство его... еще не начато.
Ограничимся этим примером. Если взять весь наш Север, то убытки только от прямых потерь из-за отсутствия техники в северном исполнении составляют десятки и сотни миллионов рублей в год. Полные народнохозяйственные потери, конечно, во много раз больше.
Но вернемся на трассу, в машину Толи Муравьева.
— Сцепление полетело! — профессионально отмечает он, заметив очередной «ЗИЛ» и лежащего под ним шофера. И притормаживает: «Друг, ничего не надо?»
Еще через десяток километров: «Эй, что там у тебя? Может, дернуть?» Зацепили трос, «дернули» бедолагу — и снова в путь.
Сама Колымская трасса неизбежно подводит нас к мысли об одной из острейших здешних проблем — ремонту, которая лишь часть еще более жгучей и важной проблемы — трудового баланса.
На крайнем Северо-Востоке гигантски разбухло все, что имеет весьма косвенное отношение к добыче золота, олова, рыбы и других даров природы. Население Магадана быстро приближается к ста тысячам, это уже около трети населения области, хотя в «столице Колымского края» не добывают золота, не пасут оленей и почти не ловят рыбу.
А ведь каждый человек на Севере дорог и, увы, не только в гуманном, но и в самом грубом экономическом смысле. Прямые расходы по переезду работника и его семьи в среднем составляют 670 рублей. Строительство жилья, социально-культурных объектов, прирост мощностей в обслуживающих отраслях хозяйства стоит 16 тысяч рублей. Кроме того, 1300 рублей затрачивается ежегодно в расчете на этого одного рабочего из общественных фондов потребления. Таковы данные Северо-Восточного комплексного института Сибирского отделения АН СССР.
Добавим к этому, что вторая, грубая дороговизна северянина определяется отнюдь не одной лишь его собственной повышенной зарплатой, но и зарплатой всех тех, кто его обслуживает. Поэтому-то, по убеждению экономистов-теоретиков, все, что можно не делать на Севере, не должно там делаться. Но вот экономисты-практики держатся мнения прямо противоположного: вое, что можно сделать на месте, нужно делать самим.
Ничего удивительного в таком резком расхождении во взглядах нет. Первые опираются на экономические расчеты, теорию и зарубежный опыт. Вторые — только на опыт, но зато свой собственный — опыт работы в наших условиях снабжения.
На Колымской трассе в поселке Спорном (спорили, спорили строители, как назвать новый поселок, да так и назвали — Спорный) стоит вполне современный ремонтный завод. Мы заехали, познакомились там с хорошими людьми и нехорошими цифрами. Проблема запчастей— старая, давным-давно надоевшая. Честное слово, нам не хотелось бы о ней даже упоминать, но спорнинцы очень просили, настаивали, убеждали нас, что в условиях Колымы треклятые эти, вечно отсутствующие запчасти буквально пожирают у государства золото.
По плану ремонта спорнинцы в течение года должны были получить 500 коленчатых валов — получили лишь 170, вместо 529 блоков цилиндров — 359, вместо 102 рам — ни одной. Вот и наваривают шейки валов, растачивают блоки, клепают рамы, перенося на каждую деталь, каждый пустячный винтик всю мощь своей северной зарплаты, все свои льготы и коэффициенты, и высокую стоимость колымских материалов, и намного повышенные по сравнению с «материковыми» транспортные тарифы. Тут уж, поскольку все это происходит на «золотой» Колыме, и мы не можем не воскликнуть: «Золотые валы! Золотые блоки! Золотые рамы!»
И действительно ведь золотые! Ежегодно (ежегодно!) на ремонт одного бульдозера тратится на Колыме около двенадцати тысяч рублей, новая же машина стоит семь тысяч рублей, включая стоимость доставки ее на Север. Нужно ли быть экономистом, чтобы судить о том, что выгодней — отремонтировать старую машину или завезти новую?.. Новых пока не хватает?.. Что же, тогда мы поставим вопрос по-другому: если так бесхозяйственно выбрасывать миллионы рублей, то скоро ли мы сумеем настолько разбогатеть, чтобы в избытке иметь новую технику? И еще повернем вопрос в несколько иную плоскость: сегодняшняя нехватка новых машин — разве это довод за то, чтобы старые ремонтировать на Севере, а не на Юге?
А на Колыме ремонтируют все. Область имеет десятки ремонтных мастерских. По данным Северо-Восточного комплексного НИИ, более половины рабочих, занятых в мастерских, делают запасные части и детали к землеройному, горно-шахтному и транспортному оборудованию, а также крепеж и метизы, выпускаемые... специализированными заводами страны. И обходится все это по крайней мере в десять раз дороже.
В одном из учреждений Магадана нам горячо рекомендовали посетить завод, который выпускает топливную аппаратуру к автомобилям — и не только для парка своих машин, но и на экспорт, за границу. Вот ведь как увлеклись!.. И спорнинцы, между прочим, не только ремонтируют автомобили, но и выпускают прицепы. А в Магадане, говорили нам, один завод оборудует автомашины самосвалами и отправляет их на «материк»... Если бы не делать всего этого, если бы поступали мы как велит экономическая теория, а равно и простой здравый смысл, то не пришлось бы завозить столько людей на Север. Не было бы недостатка ни в жилье, ни в торговом, медицинском и всяком другом обслуживании. Нехватка здесь прямо связана с разбухшей численностью населения.
По данным Сибирского отделения АН СССР, экономить живой труд на Северо-Востоке в три — пять раз выгоднее, чем в старообжитых районах. Ни сырье, ни материалы, ни электроэнергия, сколько бы их ни экономилось, в здешних условиях не могут дать даже отдаленно похожих результатов.
Но именно вокруг этого «заколдованного вопроса»— как сократить затраты живого труда — развертываются ожесточенные споры. Слишком уж по-разному понимают высокие спорящие стороны пути решения проблемы. Мы помним, что еще в конце 1965 года на большом совещании по трудовым проблемам Северо-Востока иркутские медико-географы утверждали: есть места, непригодные для сколько-нибудь длительного постоянного проживания населения, и там, следовательно, работников надо периодически менять. Доклад этот вызвал возмущение и недоумение. Такая мысль тогда попросту не укладывалась кое-кому в головы. Отпарировав эту идею в теории, закрывали глаза и на практику. Не хотели видеть того, что происходило в реальной жизни,— многие люди, прожив в климатически тяжелых местах небольшое время, по собственной инициативе перебираются в другие, более благоприятные — на том же Северо-Востоке или за его пределами.
Другой аспект того же спора — а нужно ли всем жить на Колыме и Чукотке зимой? Основное производство — добыча рассыпного золота, олова и т. д. — дело сугубо сезонное. Сезон промывки золота длится на Колыме четыре месяца. После этого потребность в рабочей силе резко сокращается. Руководителям производства приходится всячески изворачиваться, чтобы занять своих людей, изыскать им возможность заработка. Кстати, это, видимо, тоже одна из причин «полунатуральности» колымского хозяйства.
Надо ли работнику жить рядом с работой? Ответ кажется самоочевидным — конечно, надо. Более того, это неизбежно. Так ли? На географическом факультете Московского университета был разработан оригинальный для наших условий вариант расселения работников крупного алмазодобывающего комбината. (Вместо города на несколько десятков тысяч человек непосредственно у месторождения они предложили построить в несколько раз меньший поселок в Братске, более чем за 1000 километров от месторождения. А возле комбината соорудить благоустроенные гостиницы для работников, которые будут приезжать сюда на короткий срок и вновь самолетами возвращаться в комфортабельные условия постоянного проживания. Этот вариант по сравнению с предлагавшимся ранее дает экономию средств, которая покажется неправдоподобной тому, кто не знаком с условиями Севера,— более 100 миллионов рублей в год. А кроме того, люди будут жить в несравненно лучших условиях, чем обычно.
Конечно, Колыма и особенно Чукотка — это не Западная Якутия, расстояния до относительно обжитых и с хорошим климатом мест здесь куда больше. Но не стоит ли среди прочих вариантов продумать и этот? Однако даже упоминание такой возможности на последнем совещании вызвало гневную отповедь некоторых сторонников привычного пути в освоении Севера. Им казалось, что это плод кабинетных мудрствований.
Но досмотрим, что происходит с населением в Магаданской области. Оно стремительно и неудержимо растет. На начало 1969 года его численность — 359 тысяч человек. А еще 10 лет назад, в начале 1959 года, в области жило 236 тысяч человек. Прирост населения продолжает увеличиваться. За последний год он составил 19 тысяч человек. Видимо, завороженные этим громадным по местным условиям приростом населения, некоторые научные работники высказывают предположения, мягко говоря, фантастические. Вот вам: «Население советского Севера, по самым осторожным прогнозам, к 1980 году увеличится на 4—5 миллионов человек, его численность достигнет 10—11 миллионов, превзойдет современную численность материка Австралии...»
У нас уж как-то повелось гордиться тем, что самые большие в мире северные города — наши, что у нас самое многочисленное на Севере население. Не попадаем ли мы тут в положение того героя народной сказки, который плакал на свадьбе и плясал на похоронах? Не лучше ли было бы гордиться высокой производительностью труда, высокой эффективностью освоения Севера? Но ведь высокая эффективность несовместима с многолюдством. Большое количество людей — следствие малопроизводительной техники, несовершенной технологии, плохой организации труда. Стоит ли эти, далеко не лучшие, черты нашего хозяйствования на Севере увековечивать? Стоит ли заставлять новые и новые миллионы людей жить в суровых, непривычных для них условиях северной тайги, тундр, побережий холодных морей? Если эти миллионы людей можно заменить тысячами мощных, производительных, современных машин, изготовленных с учетом всех требований Севера? Если этот второй путь даст возможность создать не только сносные, но и вполне комфортные условия жизни? Можно представить себе положение, когда из множества желающих поехать на Север будет проводиться строгий отбор — только тех, кто более всего нужен этому суровому краю: наиболее квалифицированных, стойких, выдержанных людей отменного физического и психического здоровья. Несбыточная мечта? Но разве не знаем мы, что медицинские учреждения Норильска уже сейчас принимают на работу врачей со строгим отбором?
Мы не хотели бы, чтобы читатель понял нас так, что мы против постоянного населения на Севере или против роста численности северян. Просто мы утверждаем, что при том количестве людей, которое сегодня живет на Севере, можно иметь несравненно лучшие хозяйственные результаты: давать больше и значительно менее дорогой продукции. Что касается постоянного населения, то это везде, а на Севере — тем более, костяк трудовых коллективов, хранители опыта, навыков и традиций жизни. Роль их на Севере исключительно велика. На Северо-Востоке подрастает относительно многочисленное второе поколение. Люди, рожденные на Севере, считающие эту суровую землю родной, испытывают ностальгию не на Севере, а на юге. От этого поколения можно многого ожидать.
Не стоит только видеть в постоянном населении единственно возможный путь освоения. Не стоит гипнотизировать себя цифрами роста численности людей на Севере.
Сошлемся еще раз на данные Сибирского отделения АН СССР, с которыми познакомил участников научного совещания на Камчатке член-корреспондент Академии наук А. Г. Аганбегян.
Если на Севере с помощью механизации, например, удается высвободить человека, то мы экономим не только на его зарплате. Зарплата — мелкая статья в действительной экономии. Главная экономия — это затраты на жилье, на заработную плату обслуживающего персонала и целая цепочка других затрат. Для того чтобы содержать трудящихся основного производства, нужны работники просвещения, здравоохранения, торговли, обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства. Для того чтобы содержать все эти сферы, снова нужны работники просвещения, здравоохранения, торговли и т. д. и т. п. Отсюда интересный и весьма распространенный парадокс: мы видим на Севере поселок с населением в 10 тысяч человек, а он возник для дела, в котором занята всего лишь тысяча человек. Все остальные — это как раз то, что «накрутилось по цепочке».
К сожалению, в северных районах эта «цепочка» много длиннее, чем в обжитых местах. На Северо-Востоке на одного человека, занятого в отраслях союзной специализации, т. е. того, ради чего, собственно говоря, туда и вкладываются средства, 6 работников занято в обслуживающих отраслях производства и в непроизводственной сфере (обслуживание и пр.). Примерно так же на Камчатке, несколько больше — в Якутии.
Если же говорить конкретно о Магаданской области, то на 100 человек, работающих в основных отраслях ее хозяйства, ради которых оно, это хозяйство, и существует 530 человек занято в «обслуживании» (транспорт, ремонт, бытовые услуги и т. д.). Много это или мало? Для сравнения — в зарубежных странах, широко осваивающих Север, на 100 работников основных отраслей приходится 50—100 человек «обслуживающих».
На Севере, по данным Аганбегяна, содержание одного работающего стоит примерно 15 тысяч капитальных и 4 тысяч рублей в год текущих затрат. Если иметь в виду, конечно, полные народно-хозяйственные затраты. Поэтому здесь, как нигде, есть смысл заменять живой труд трудом машин.
Именно на Севере повышение производительности труда на 1 процент дает самый сильный, максимальный народнохозяйственный эффект. Любое средство механизации здесь в несколько раз выгоднее, чем в обжитом районе. Одна машина на Севере заменяет по эффективности пять машин на юге!
Еще и еще раз убеждаемся — Север надо осваивать с минимальными издержками живого труда. Это элементарнейшая аксиома северной экономики. В теории с нею согласны все. Кажется, однако, что практике нет дела ни до этой аксиомы, ни до всеобщего с ней согласия. Фактически то, что в средних широтах, где-нибудь в Центральной России делает один человек, на Колыме могут сделать только двое-трое. Потому что ниже энерговооруженность труда, потому что хуже его организация, потому что механизмы все в том же южном, равнинном и прочем исполнении не приспособлены к местным условиям.