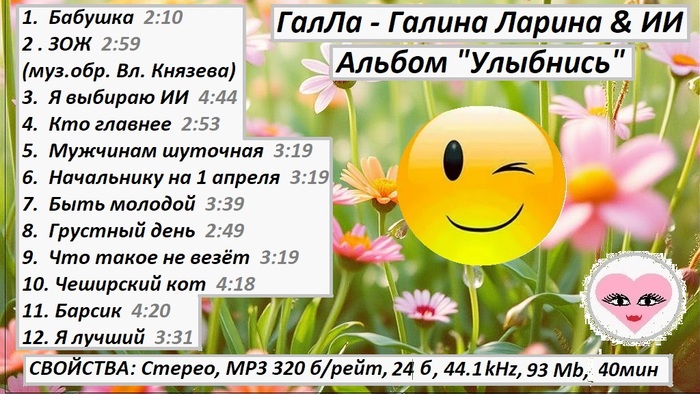Есть у меня маленькое серебряное кольцо с потускневшей бирюзой, похожей на каплю неба, пойманную и навеки заточённую в металле. Я ношу его на цепочке, под свитером, чтобы холодный металл касался кожи. Это не украшение. Это шрам, зашитая рана, память о той зиме, которая пришла внезапно, в разгар лета, и осталась со мной навсегда.
Дело было в семьдесят шестом. Эпоха застоя, как её теперь называют. А тогда это называлось просто жизнью - предсказуемой, обкатанной, как рельсы трамвая. Проснулся, завел будильник, выпил чаю с батоном и сыром «Дружба», пошел на работу. Мы жили в большом городе, где каждый был винтиком, и я, Анна Сергеевна Орлова, младший научный сотрудник в институте метрологии, была, пожалуй, самым маленьким и незаметным винтиком. Моя жизнь была как чертёж, выверенный до микрона: работа, дом, редкие походы в кино с подругами, книги, которые я брала в библиотеке им. Ленина. Будущее виделось прямым, как проспект: защита диссертации, возможно, замужество за кем-то из коллег, ребёнок, кооперативная квартира… Всё как у людей. Всё правильно.
А потом в нашем отделе появился он. Виктор.
Его прислали из Ленинграда, для обмена опытом, как говорилось в приказе. Он вошёл в нашу унылую лабораторию, пропахшую паяльной касторкой и старыми журналами, словно сквозняк свежего ветра. Не то чтобы он был очень красив. Нет. Но в нём была какая-то внутренняя стремительность, энергия, которой не было у нас, у москвичей, привыкших к этой вечной, давящей стабильности. Он ходил быстро, говорил чётко, смеялся громко и не оглядываясь на начальство, а в глазах у него стоял какой-то насмешливый, весёлый огонёк. Он был из другого теста слеплен.
Помню наш первый настоящий разговор. Я сидела над кальками, пытаясь вывести дрожащей рукой кривую, и вдруг над моим ухом прозвучал его голос:
- Вы её мучаете, Анна Сергеевна. Она не желает быть красивой. Она желает быть правдивой.
Я вздрогнула и посмотрела на него. Он стоял, опершись о мой стол, и улыбался. В его улыбке не было ни капли злобы, одно лишь понимание.
- А разве это не одно и то же? - выпалила я, сама не зная, что говорю.
- О, нет! - рассмеялся он. - Красота - это «компромисс». А правда - она всегда колючая, неудобная. Как ёж. Вот и ваша кривая - она ёж. Не надо её причёсывать.
Он говорил странно, метафорами, не как инженер. Он смотрел на мир иначе. И этот взгляд заразил меня мгновенно, как болезнь.
Мы стали работать вместе. Потом он предложил проверить расчёты вечером, «пока комендант не выгонит». Потом пошли пить чай в столовую на первом этаже. Грязный стакан с подтеками, шипение кипятка, талые вафли на блюдце… А казалось, что мы в парижском кафе. Он рассказывал о Ленинграде, о белых ночах, о том, как он и его друзья-художники слушали ночью на крыше «Голос Америки», заглушая его гитарой, если во двор заходил милиционер. Он говорил о Бродском, которого я, стыдно признаться, тогда не читала. Он жил какой-то другой, параллельной, яркой и рискованной жизнью, о которой я только смутно догадывалась.
Я слушала его, и мой аккуратный, вычерченный мир давал трещину. В этих трещинах проглядывало что-то ослепительное и пугающее.
Мы гуляли по вечерней Москве. Сидели на скамейке в каком-то тихом переулке за Арбатом, и он курил «Беломор», а я смотрела на него и думала, что вот он, тот самый, другой человек, которого я ждала, сама того не ведая. Мне было двадцать шесть, но я чувствовала себя девочкой-подростком, такой же нелепой и восторженной.
Он был моей противоположностью. Я - осторожная, он - безрассудный. Я - молчаливая, он - говорливый. Я боялась начальства, а он однажды на совещании у главного инженера заявил, что наши методы устарели лет на двадцать, и предложил совершенно безумную, гениальную идею. Воцарилась мёртвая тишина. Главный инженер, Фёдор Игнатьевич, побагровел. А Виктор сидел и улыбался своему «ежу». Меня охватил ужас и… восхищение. Да, восхищение. Я поняла, что люблю его. Безнадёжно, безоглядно, как можно любить только раз в жизни.
Он чувствовал то же самое. Это было ясно без слов. Наши взгляды, наши случайные прикосновения, наше молчание - всё кричало об этом. Но мы оба молчали. Время было не то, место не то. У него в Ленинграде оставалась невеста, дочь большого начальника, о которой он упоминал как-то вскользь, с лёгкой усмешкой, которая, однако, никогда не касалась его глаз, когда он говорил о возможностях, открывающихся благодаря этой связи. У меня - моя серая, но стабильная жизнь. Наш роман был обречён с самого начала, и мы это знали. Оттого каждый миг, украденный у судьбы, был сладок и мучителен.
А потом наступило то лето. Жаркое, душное. Командировка Виктора подходила к концу. Воздух между нами был наэлектризован до предела. Мы ждали развязки.
Она наступила вечером, после работы. Мы шли через парк, и он молча взял меня за руку. Не за пальцы, а за всю руку, крепко, почти больно. Мы сели на ту же скамейку, где сидели в первый раз.
- Анна, - сказал он, и больше ничего. Но в этом слове было всё.
Он достал из кармана маленькую коробочку, потрёпанную, бархатную.
- Это… не от меня. Это от ёжика, - он попытался пошутить, но голос сорвался.
Я открыла коробочку. В ней лежало кольцо. Серебряное, ажурное, с бирюзой.
- Оно… старое, - пробормотал он. - Мамино. Она носила его всегда. Говорила, оно приносит правду. Какую бы правду ни пришлось за это заплатить.
Он взял мою руку и надел кольцо на безымянный палец. Оно было немного велико.
- Я уезжаю через неделю, Анна.
Сердце моё упало и разбилось. Я знала, что это случится, но знать и услышать - это разные вещи.
- И что же? - прошептала я, глядя на бирюзу, которая поблёскивала в сумерках.
- И ничего. Я должен жениться. Там. Это… всё решено. Отец… её отец… это очень важно для моей работы. Для всего. - Он говорил обрывисто, не глядя на меня, и в его словах сквозила не только боль, но и какая-то деловая, циничная констатация факта, от которой мне стало ещё холоднее.
Он не был похож на себя. Этот уверенный, насмешливый Виктор куда-то исчез, а передо мной сидел затравленный молодой человек, загнанный в угол обстоятельствами, которые он сам же и выбрал.
- Я понимаю, - сказала я. И это была правда. Я понимала прекрасно. В нашей жизни личное всегда было на втором, на третьем месте. Сначала - долг, партия, работа, семья (та, которую одобряют), а потом уже всё остальное. Любовь - это непозволительная роскошь, отклонение от нормы, брак.
- Нет, ты не понимаешь! - вдруг страстно вырвалось у него. - Я не хочу этого! Я хочу быть с тобой. Мы можем… я могу всё бросить! Уехать! На Камчатку, куда угодно!
Он кричал, жестикулировал. Это было наиграно, театрально. Я смотрела на него и вдруг поняла страшную вещь: он не сможет. Он - бунтарь в мелочах, в разговорах на кухне, в смелых идеях на работе. Но перечить системе, ломать свою карьеру, становиться изгоем - на это у него не хватит духу. Он уже сделал выбор. И этот разговор, эти слова о Камчатке - всего лишь ритуал, последняя дань нашему чувству, чтобы потом можно было сказать себе: «Я же предлагал, я боролся».
Моё молчание отрезвило его. Он умолк, опустил голову.
- Прости, - выдавил он. - Я не имею права тебя обманывать. И себя тоже.
- Ничего, - прошептала я. - Всё в порядке.
Мы сидели ещё с час, может, больше. Говорили о пустяках. О работе, о книгах, о погоде. Словно ничего не произошло. Но кольцо на моём пальце жгло кожу.
Он уезжал утром, с Ленинградского вокзала. Я не пошла его провожать. Не смогла. Вместо этого я поехала на работу, как ни в чём не бывало. Включила приборы, принялась за расчёты. В лаборатории было пусто и тихо. И вдруг я увидела на столе его забытую пачку «Беломора». Он всегда оставлял за собой маленький беспорядок: смятые чертежи, карандаши, окурки в пепельнице. Я взяла пачку, прижала к лицу, вдохнула запах табака и его одеколона «Шипр».
И тут меня накрыло. Волна горя, такая страшная и неотвратимая, что я согнулась пополам от беззвучного рыдания. Я плакала тихо, чтобы никто не услышал, уткнувшись лицом в холодный стол. Плакала о нём, о себе, о нашей несбывшейся любви, о всей этой жизни, где нельзя быть с тем, кого любишь. Плакала о своей сломанной судьбе.
Потом всё прошло. Я умылась в лабораторной раковине, поправила волосы и села работать. Кривая на кальке получалась ровная, красивая и абсолютно ложная. Я стёрла её и начала выводить правдивую, колючую, как ёж.
С тех пор прошло несколько месяцев. Я жила, как раньше. Работа, дом, книги. Только теперь это была не жизнь, а её имитация. Я стала старше, строже, замкнутее. Иногда приходили письма от Виктора. Короткие, сдержанные. Он женился. Его перевели на хорошую должность. Он писал о погоде в Ленинграде, о новых проектах. В конце всегда было: «Надеюсь, у вас всё хорошо». Я не отвечала. Что я могла написать? О том, что каждую ночь вижу его во сне? О том, что не могу носить его кольцо на пальце, потому что каждый взгляд на него - это нож в сердце? Я сняла его и повесила на цепочку. Спрятала. Как спрятала и свою боль.
Однажды зимним вечером я шла по улице Горького. Мороз щипал щёки, люди спешили по своим делам. В витрине «Детского мира» горели гирлянды - приближался Новый год. И вдруг я увидела его. Вернее, их. Он шёл под руку с молодой женщиной в дорогой норковой шубке. Она что-то говорила, смеялась, запрокидывая голову. Он слушал её, улыбаясь своей прежней, немного насмешливой улыбкой. Они выглядели счастливой, красивой парой. Людьми из другого мира.
Они прошли мимо, не заметив меня. Я стояла, вмёрзшая в тротуар, как столб, и смотрела им вслед. И в тот миг до меня наконец дошла простая и страшная правда: его любовь ко мне была всего лишь последней вспышкой свободы перед тем, как навсегда погрузиться в предсказуемую, удобную жизнь. Я была его бунтом. Его Камчаткой, о которой можно мечтать, но на которую никогда не решиться.
Он любил меня. Я в этом не сомневаюсь. Но он любил и комфорт, и карьеру, и одобрение общества. И эта любовь оказалась сильнее.
Я не почувствовала ни злобы, ни обиды. Только бесконечную, леденящую пустоту. Я тронулась с места и побрела домой. В коммунальной квартире пахло капустой и лаковыми сапогами соседа. Я включила свет в своей комнате, села на кровать и достала кольцо. Бирюза в свете лампы накаливания казалась мутной, мёртвой.
Я поняла, что мы расстались не тогда, на вокзале. Мы расстались сейчас, на улице Горького. И это была уже не боль, а констатация факта. Как в наших лабораторных отчётах: «Опыт не удался. Результат отрицательный».
Прошло ещё немного времени. Я встретила другого человека. Хорошего, доброго, надёжного. Мы поженились. Родился сын. Жизнь вошла в свою колею, ровную и спокойную. Я научилась быть счастливой по-другому, не так ярко и безумно, как с ним, но зато прочно, надёжно.
Иногда, очень редко, я достаю кольцо. Смотрю на эту каплю неба, пойманную в ловушку. И думаю о нём. О нас. О той любви, которая могла бы быть, но не стала. Она осталась где-то там, в прошлом, запертая в памяти, как в старой бархатной коробочке.
И я не знаю, что лучше: помнить такую любовь всю жизнь или забыть её, как забывают яркий, но бессмысленный сон. Моя любовь к Виктору была правдой. Колючей, неудобной, как ёж. И за эту правду я заплатила сполна. Но я ни о чём не жалею. Потому что только она одна и была по-настоящему моей.