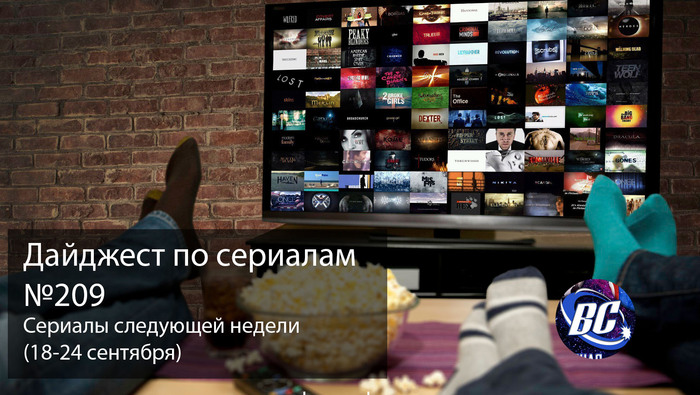– На просто так? – переспросил Саня, немного напрягшись. – Давай на просто так.
– На что, на что вы играете? – переспросил кто-то.
– Какая тебе разница? – Саня показал глазами, чтобы тот молчал.
– На просто так играем. Да, наркоман?
– Да, – Алексей уже расставил фишки и ждал, когда это сделает соперник, – только не называй меня наркоманом.
– О’кей, – поспешно сказал Саня и первым бросил зарики.
Необходимо сделать отступление, чтобы пояснить значение обычного на свободе выражения – «просто так».
В тюрьме другие законы, другие правила, другие шутки. Если кратко, то означает выражение следующее: «просто» – это жопа, и ты предлагаешь ее за «так», то есть игра шла на то, кто кого будет иметь право поиметь сзади.
И это не шутка. Таковы жесткие законы тюрьмы, созданные от того же, от чего и началась эта игра – от безделья.
Лица мужского пола длительное время находились в нечеловеческих условиях и сообразно с ними придумывали себе правила, несоблюдение которых каралось.
Правила искажались, что и привело к возникновению идиотизма, вроде «просто так».
Игра подходила к концу. Алексею было непонятно, почему соперник за время игры дергался, дул на зарики, ругался, в общем, откровенно переживал за исход.
Играл тот неважно, но на этот раз ему повезло. И как только была загнана последняя фишка, Саня вскочил и, похлопав по плечу Алексея, сказал трясущимся от пережитого голосом:
– Куда? – не понял Алексей.
– Как куда? Долг отдавать, нарик сраный, – зло и весело сказал Саня.
Алексей до сих пор ничего не понял, но смутная догадка уже блуждала в глазах, его бросило в жар.
– Пошли-пошли, – Саня подталкивал его, – я тебе мыльце дам, новый «Сейфгард» не пожалею. Иди пыж мыль.
– Не буду я ничего мылить, – отдернулся Алексей, бледнея.
– Не хочешь мылить, пошли на сухую. Не ломайся как девочка, все будет быстро и, обещаю, почти не больно. Полжизни мечтал наркомана трахнуть, – Саня все больше заводился.
На них стали открыто обращать внимание. На лицах окружающих была видна заинтересованность, даже веселость, но не сочувствие.
– Да ты, нарик, опух! Есть свидетели, что мы с тобой забились и играли «на просто так». Может, ты хотел меня поиметь? Так что, давай, должок гони, – подзадоривая Саня.
– Я не знал про «просто так», – жалко лепетал Алексей.
– Теперь знаешь. Да и как ты не знал? Мы только вчера над этим прикалывались. Так что теперь твоя жопа принадлежит мне, – орал Саня, размахивая руками.
– Не буду я ничего отдавать, – внезапно окрепшим голосом заявил Алексей.
– Я тебе сейчас башку литряком разобью и все равно всуну.
Саня действительно схватил литровую кружку и стал размахивать ею над сжавшимся Алексеем.
– И я буду прав, любому вору отписывай, – орал Саня. – Короче, даю тебе полчаса, и по истечении ты мне говоришь, что мне с тобой делать. Видишь, я тебе время даю. Цени.
Полчаса прошли быстро. Алексей все это время просидел в углу, а Саня весело болтал с сокамерниками.
– Что решил? – Саня развязно подошел к жертве.
– Давай я тебе олимпийку отдам. Еще станок жилетовский с кассетами, – проговорил Алексей, опустив голову.
– Ладно, вшивая олимпийка и пользованный станок. Еще что? – Саня загнул два пальца.
– У меня больше нет ничего, – Алексей поник.
– Нифига себе. Ты свою жопу оцениваешь в одну олимпийку и станок? Недорого же ты ее ценишь. Нет, надо еще. К тебе дачки заходят? – Саня был нагл и самоуверен.
– Да, должна скоро зайти, – с надеждой сказал Алексей.
– Так, отдаешь мне дачку, потом стираешь простыню, и каждый день будешь мыть за меня посуду. Идет такой расклад? Или лучше петушатник? – ехидно спросил мучитель.
– Идет, – еле слышно отозвался Алексей.
– Можешь приступать. Я как знал – посуду не мыл. Простыня вон там. Мыло сам найдешь. Действуй.
И началась для Алексея горькая жизнь. Он стал шнырем. Мыл посуду, стирал вещи, слушал упреки и сносил оплеухи.
Через два месяца Алексей уехал на зону.
Вещей он не имел, только то, что одето.
История имеет продолжение. Вот слова сокамерника:
– Помнишь Лешу-нарика. Того, что в нарды Медведю проигрался? Петушкой стал. Медведь, оказывается, с ним на одну зону попал, и развел все-таки.
– Нишняк, уже в теме, честное слово, – обрадовался Паук. – Я тут фишку придумал. Короче, зырь и записывай. Я пошел.
В камеру зашел новый этап. Два парня. Один маленький, юркий, с большой сумкой.
Второй – полная противоположность.
Он был высок ростом, с длинными руками, на лице застыло выражение растерянности, ему явно было дико место, в которое он попал. Он уныло стоял у двери, пока кто-то не спросил:
– Простите, кто? – парень был в недоумении.
– Ты не пидор? – резче спросил тот же человек.
– Нет-нет, что вы?! – испугался парень.
– А откуда родом, земляк? – спросил полный мужик в адидасовском костюме.
– Из Екатеринбурга, – быстро ответил тот.
– А звать как? – спросил лежащий рядом с полным круглолицый парень.
– Будь посмелее, Василий. Сколько дали-то?
– А за что, если не секрет? – спросил мужик в Адидасе.
– Покушение на убийство, – мгновенно погрустнел парень.
– Погорячился, из себя вышел? – предположил полнолицый.
– Да, – ответил Василий, сникнув.
– Не гони, – заключил полнолицый, и, видя, что разговор скомкался, прибавил: – Ладно, располагайся, распаковывайся. У нас тут каждый день мальчишник, бывает весело. С тобой смотрящий хочет погуторить. Вон, в углу. Видишь?
Василий кивнул и направился к поджидавшему его немолодому мужчине, раздетому по пояс, всего в наколках.
– Здорово, братан, – приветствовал его татуированный, – как звать? А меня зови Николай, можешь – Карп. Я здесь смотрящий, слежу за порядком в хате. Место тебе сейчас найдем. Располагайся, присматривайся, теперь это твой дом.
«Да, – подумал Василий, – так и есть. Значит, на то воля Божья. Но зачем так жестоко, Господи? Я все понял, раскаялся, перед судом всю ночь на коленях простоял перед иконой Игнатия Брянчанинова. Но видно надо было мне сюда попасть, чтобы еще более уверовать в милость Божью. Спаси и сохрани нас, Господи, своею благодатию. Аминь».
Сев на скамейку, Василий осмотрелся.
«Деревянный пол, железные шконки в три яруса вдоль стен, посередине сооружение из дерева и железа, на котором, судя по всему, едят».
Он подошел к распорядку дня в деревянной рамке. Подъем – в шесть часов, заправка постелей, туалет…
Василий огляделся. Скорее всего, вон тот короб из железа и является туалетом. Он снова развернулся к распорядку дня. Уборка помещения – восемь часов. Девять – завтрак. Затем идут прогулка, личное время, обед, опять личное время, ужин, еще одна уборка, проверка. Отбой – десять часов вечера. Жить можно. Распорядок как в семинарии или в армии».
Василий хмуро усмехнулся и, достав из сумки книги и выбрав Новый Завет, помолился и принялся за чтение.
К нему подошел пожилой мужчина с редкой, будто выщипанной, бородкой и спросил:
– Что читаешь? Не поделишься?
Но когда Василий показал обложку, поморщился:
– Нет, такое не потребляем. А ты в Бога веришь?
– Да, – гордо сказал Василий.
Мужчина, помявшись, отошел.
Василий, подняв голову, увидел молодого парня примерно своих лет. Довольно крепкого на вид, с уверенным лицом, выраженным в кривой ухмылке и нахальном взгляде.
Наколотый на плече фашистский крест усиливал впечатление.
– Ничего, покалякать захотелось. Меня Эдиком зовут, Паук – погремуха. А ты учился где? В смысле в духовной школе какой-нибудь? – спросил здоровяк.
– Я учился в духовной семинарии имени Хаббарда, – уверенно ответил Василий.
– Солидно. А у меня пять классов образования и три коридора. Ты не против, если мы немного побеседуем? Отлично, тогда для начала расскажи, как вы там в семинарии учитесь и кем выходите? Хотя, подожди, – остановил он, – сейчас ужин будет. Баланду похлебаем, а после поговорим. Лады?
Поев перловки, напоминающей скорее кисель с зернами, Василий помыл тарелку над ржавой раковиной и взялся за книгу, ожидая Эдика.
А тот не торопился. Он весело болтал с двумя парнями и, дождавшись, когда освободится «крокодил», они принялись за ужин. И ели они отнюдь не перловку. Маленький парень накрыл им на стол. Затем Эдик достал пакетик пюре быстрого приготовления и банку тушенки, вывалил все в глубокую тарелку, и налил кипятка. Перемешав разбухающую и испускающую волнующие запахи смесь, он сказал:
– Приступим, семейка, – и первым отправил в рот дымящееся пюре с огромным куском мяса.
Во время ужина Эдик рассказывал какую-то веселую историю, размахивая ложкой. Наконец, он подошел:
– Можно тебя отвлечь? Приятно здесь с умным человеком встретиться, честное слово. Понимаешь, я тоже состою в организации духовно связанных людей. Только ее устав несколько отличается от вашего, хотя тоже крестики носим, хоть и перевернутые. Я – сатанист. Да не пугайся ты так, дыши.
Василия ошарашено молчал. Ему вдруг стал противен собеседник, но он не мог просто уйти, и оборвать разговор.
– Хорош глаза пучить, я и обидеться могу, честное слово. Я такой же человек, как и ты. Только верю в другого Бога – в сатану. Опять уставился, как на привидение. Если хочешь знать, он такой же Бог, как и твой триединый. Даже, может, и больше. Ведь он ближе к человеку. Перед твоим надо стоять на коленях, с опущенной головой, вы – рабы, а с нашим мы на равных. Твой где-то парит в небесах, хоть и говорят, что он везде. Но если б он был везде, то и реагировал бы сразу на просьбы поклонников. А то люди молятся, каются, просят о чем-то – и так всю жизнь и безрезультатно. Мой же Бог, поднебесный, вот он – рядом ходит. Попроси я что у него, и он дает. Наказывает тоже жестоко, но на то он и сатана, а твой Бог – Бог добра, как же он может наказывать? Ответь.
– Он наказывает, чтобы научить, – выдавил Василий.
– Чему научить? – Эдик обрадовался реплике, – чему могут научить несчастья? Они могут только обозлить. Человек хочет спокойствия, чтобы его никто не трогал, и все было в достатке. А твой Бог пытается чему-то учить, издевается.
– Для тебя человек – тот, кто хочет набить желудок и жить спокойно, а для меня – кто борется за свою душу и хочет жизни вечной, – уверенно сказал Василий.
– Я тебя внял. А вдруг вечной жизни нет? Ты же не можешь точно сказать, а только верить. Но наша-то жизнь – вот она. Вокруг. И надо в ней жить для этой жизни, а уже в следующей, если она есть после смерти, будем жить для нее. Ты же сознательно убиваешь эту, и еще не ясно, будешь ли жить в другой. Наслаждайся жизнью и хватай каждую минуту этого прекрасного творения своего Бога.
– Тот, кто так рассуждает, жестоко ошибается и рано или поздно раскается в этом. Потому что Бог сильнее лукавого, и он придет еще на землю и устроит Страшный суд. Вот тогда и поглядим, кто прав, – твердо сказал Василий.
Он даже немного вспотел от гордости за себя.
– А сатана уже на земле, – Эдик усмехнулся. – И что Бог сильнее, не факт. Сам реально прикинь. Все в жизни хорошее обязательно имеет худую противоположность. Даже молекулы и те – есть положительные и есть отрицательные. Не говоря уже о людском уровне. Как Инь-Янь или закон единства и борьбы двух противоположностей. Вроде все едино, а все же борется, то есть хорошее равно по значению плохому. И так везде. Добро никогда не побеждало, да и не может победить зло. Оно слабо, потому что скрыто, а зло – оно везде, ткни пальцем, и вот оно, явно и сильно. Вот ребенок – сначала рождается нейтральным, ни то ни се, и постепенно добро в нем забивается глубоко внутрь и вылезает в виде совести. Ведь детсадовские дети очень жестоки: сдирают кожу с лягушек, вешают кошек, не желают слушаться родителей, когда те пытаются привить что-то хорошее. В единичных случаях добро делается нормой поведения, в основном же человек, взрослея, любит издеваться над животными, над себе подобными, ему нравится пить, курить, принимать наркотики, трахаться, наконец. Вот ты, Вася, пробовал половой акт с женщиной?
– Конечно, я такой же нормальный человек, как и все, – нашелся Василий, не ожидавший такого разворота.
– Расскажи, если не секрет.
– Да нет вроде бы. Понравилась одна женщина. Она меня всему научила в постели. Встречался я с ней около года, затем пошел в армию. Вот и все. И совсем об этом не жалею.
Сказав, Василий в ожидании посмотрел на собеседника.
– Да, – протянул тот, – не особенно впечатляюще и содержательно. Хотя суть я понял. Здоровая самка затянула в постель девственника и изнасиловала.
– Да нет, все было по любви. Хоть я тогда и был еще молодым, – оправдывался Василий.
– Ладно, это не важно. А ты вот скажи, когда она тебя, как ты говоришь, учила, что совать и куда, ты у нее влагалище пробовал лизать? Да не смущайся ты, как девочка. Тут все свои. Говори смело. Лизал или нет?
Эдик немигающим взглядом уставился на Василия.
– Понимаешь, это очень интимно, – Василий был смущен.
– Подожди, – перебил Эдик, – не хочешь, не говори. Пойми, предосудительного в этом ничего нет. Просто я хочу убедиться, нормальный ты мужик или нет.
– Если честно, то пробовал. Она мне и это показывала и просила у себя между ног полизать. И я, чтобы ей приятно было, делал, – Василию было неудобно рассказывать это, но казаться неполноценным, зацикленным на религии, хотелось еще меньше.
– Итак, лизал, – тихо обрадовался Эдик.
И обращаясь ко всей камере, громче:
– Бродяги, у нас выявился в хате пилоточник.
И, повернувшись снова к притихшему Василию, сказал:
– Нехорошо сухариться, Васек.
Василий удивленно хлопал глазами и смотрел то на улыбающегося Эдика, то на начавших проявлять заинтересованность сокамерников.
А Эдик все больше распалялся, чувствуя среду.
– Ты нырял в женскую пилотку. Следовательно, вылизывая влагалище, ты облизывал чей-то член. Ведь твоя телка была явно не девочкой. Так? Значит ты, получается, брал в рот мужской член. Следовательно, кто ты после этого? Пидорас!
– Но это было давно, – наконец, выдавил Василий из себя первое, что нашел в голове.
– Ах, давно, – Эдик зашагал по камере, метая четки, – не хочешь ли ты сказать, что если пидорас попробовал потрахаться, то через некоторое время он уже и не пидорас? Давность не освобождает от ответственности. Это тебе любой судья скажет. И раз ты – пидорас, а к этому выводу мы только что пришли, то, следовательно, по закону нашего положения, должен и жить в соответствующих условиях.
– Эд, не тебе это решать, – подал голос внимательно наблюдающий за происходящим Карп.
– Извини, Карп, попутал, – не меняя веселости тона, сказал Эдик. – Итак, лично я предлагаю переселить блаженного.
Он указал рукой на шконку, на которой никто не спал, потому что листов железа в ней не хватало, да и находилась она прямо под местом, куда ставят посуду, и на нее постоянно капала вода от мытья посуды и каша из набитых мисок.
– Смотрящий не против? – спросил Эдик у Карпа.
Он совсем не собирался чем-то помочь богобоязненному, а просто напомнил о себе, показав, что последнее слово все же должно оставаться за ним. Ведь именно с него спросят, если в камере произойдет беспредел. Пока же все было в норме. Просто парень не умел себя поставить, но это его проблемы, он не в пионерский лагерь заехал.
– Идет тебе кабинетик, Василий? Да даже если и не идет, права выбора у тебя, к твоему сожалению, нет. Есть ты тоже будешь отдельно. Ну и обслуживать половые потребности хаты, естественно. По первому требованию. Нет, мужеложство мы не уважаем, но что поделаешь, природа требует низменного. Понял, Василиса? Пойдет тебе новое имя? Не нравится, другое выбери по вкусу, – Эдик совсем разошелся.
Глаза его недобро блестели, и весь он был похож на хищного зверька, почуявшего добычу.
«И здесь пока нет беспредела, – рассуждал Карп, – он ведь его насильно не принуждает к половому сношению. Тот молчит, значит, со сказанным согласен».
– Время перебраться на новое место жительства тебе – до вечера, – заключил Эдик и отошел, довольный собой.
Представление закончилось и заключенные, все еще улыбаясь, занялись прерванными делами.
Единственное что в тюрьме незыблемо, это непричастность к чужому горю. «Впрягаясь» за кого-то, ты берешь на себя его проблемы, а в таких местах некоторые из них могут быть разрешимы только смертью или крайним унижением. За любое высказывание, жест, даже намерение можно подвергнуться наказанию «по понятиям».
Мало сказать, что Василий был подавлен или удивлен. Он был убит. В голове словно бомба взорвалась, ни думать, ни, тем более, говорить он не мог.
Про то, кто такие обиженные, он был наслышан. Что это даже не людей, а отбросы от тех отбросов, кого государство замуровало в четырех стенах.
Не собираясь жить тюремной жизнью, он старался не вникать в ее тонкости, ее подводные и надводные камни. И вот он по уши завяз. И понятия не имел, как выбраться.
«Надо поговорить с Эдиком, – решился он через три часа, – если тот заварил это, то сможет при желании и помочь».
Набравшись смелости, помолившись и, сдерживая отвращение, он подошел.
– Можно с тобой поговорить?
– Конечно, Вась. В чем дело? – тот улыбался.
– Может можно как-нибудь замять это? – Василий с трудом подыскивал подходящие слова.
– Что? – Эдик притворился забывчивым, – с тем, что ты – обиженный? Так это была шутка, Василий. Ты разве не понял, шутка и ничего более. А ты что, за правду все воспринял?
– Да нет, – Василий снова растерялся.
– Отдыхай, Васек, не напрягайся, – Эдик улыбался все шире, глядя на обескураженного собеседника, – только больше не попадайся на подобную удочку, может не прокатить. Понял?
Василий уныло кивнул, его душили слезы благодарности.
– А знаешь, Вась, почему я вообще затеял это представление? Просто мне хотелось показать, что ты абсолютно не приспособлен к жизни. Думая о вечной жизни, ты упустил из вида эту, творящуюся вокруг. Мы же свободно вращаемся в этой, и если потребуется, мигом задавим и вас, и вашего Бога. Да и на том свете для меня не будет ничего неожиданного. Если уж твою душу заберут ангелы, так какая разница, какого цвета они будут? Я не буду тебя больше убеждать. Со временем поймешь, что я прав. Лучше сразу пойти и повешаться, чем всю жизнь себя обманывать и убегать от страстей, думая о том, как прекрасно будет на том свете. Самый лучший способ победить порок, знаешь, какой? Ни хрена ты не знаешь. Самый лучший способ – это поддаться ему. Бог – это тот, кто сидит и срет на землю, а мы купаемся в этом дерьме под названием жизнь. Но есть те, кто упорно ползет вверх, чтобы вцепиться в благословляющую задницу. Это мы, сатанисты. Ладно, меня опять клинит. Отдыхай, свидетель Иегов, – Эдик махнул рукой.
– Слышь, Поп, – обратился Паук к уныло сидящему Василию, – тут Летчик про тебя рассказ написал. И как ты хочешь, чтобы он закончился? Может, тебя на поебаться все же развести? Не хочешь? А надо, Попик, надо. Хе, Попик в попик. Не боись, это то же самое, как срать, только в другую сторону. Блин, это я такой, или попы всех так возбуждают.
В тот же день их известили, что завтра – этап.
И в Столыпино они оказались все вместе, что неудивительно, так как свободных купе не было.
Историк, Паук, Поп и Летчик.
Историк уже давно молчал, позволив говорить Пауку.
– Пиши о ворах в законе. Встретил я одного еще на малолетке, но он оказался плюшевым. Короче, слушай.
Это каста благородных людей, у которых профессия – воровать. Они посвящают этому всю жизнь, изредка отдыхая в местах не столь отдаленных.
Сидеть – часть их профессии, так как в тюрьме у них другая работа – объяснять воровские законы тем, кто к такой жизни стремится, и наказывать тех, кто их отрицает. Многие парни стремятся завоевать уважение в этом виде человеческой деятельности.
Живой пример – Эдуард, кличка Паук – за множественные наколки этого членистоногого. Пауки у него были на руках, ногах, теле, голове и один на внутреннюю сторону нижней губы.
Что характерно: все пауки ползли вверх, а это означало, что человек не собирается завязывать с воровским миром.
Ему двадцать один год. Попал в эту зону отчуждения за то, что избил зимой прохожего и снял с него куртку и кроссовки, что чуть не стоило тому жизни.
И вот, наконец, ему повезло. В камеру зашел невысокий мужчина и сразу показал, что все в этих застенках уже видел.
Раздевшись, он невзначай продемонстрировал сплошь исколотое наколками тело. Это был Саня Синий.
– Существует несколько заповедей вора, которые ты обязан знать и строго соблюдать, – учил Синий. – Один тут в камеру заехал и говорит: «Я – вор». Мы, как знающие, поговорили, и выяснили, что он даже ни одной заповеди не знает. Башку, конечно, отбили. Косящий под вора хуже ссученного.
– А ты мне, Синий, эти заповеди дашь? – спросил Эдуард.
– Конечно, отрок. Это хорошо, что ты стремишься. Вор из тебя толковый выйдет. И запомни, на какую бы зону ты ни попал, везде наводи воровской ход, не обращая внимания на то, что тебя бьют менты, сажают в БУР. Терпи, Паучок, на то ты и стремящийся. В отказ от работы иди. Тебя, конечно, прессовать будут, но ты сам этот путь выбрал.
Так у них и проходили день за днем. И вот долгожданная зона. Как и следовало ожидать, Эдуард уже гуляет в БУРе, он полный отказник от любой работы. Его жестоко били менты, но сломить такую волю было нелегко. Он только улыбался кровоточащими губами и гнул свою линию. У него была цель – стать вором, и он уверенно шел к этому.
Скоро Эдуард уже считался злостным нарушителем дисциплины и находился в черном списке у начальства.
Однажды он, в очередной раз выйдя из БУРа, неожиданно услышал знакомый голос, что-то кому-то втолковывающий.
– Синий! – радостно крикнул он и завернул за угол.
И столкнулся с Синим, который орал на осужденного. На рукаве его «косяк» – бирка, означающая, что он является посредником между ментами и зеками, то есть «козлом».
Открыв рот, оба остановились.
– Не, нормально, – протянул Паук, и обратился к сиротливо сидящему Василию, – что, Попик, решил? Что же нам с тобой делать, козлина ты дикий?
– Пошел ты на хуй! – неожиданно для всех истерично вскричал Василий. – Я такому, как ты, колени на больничке прострелил. И тебя сейчас кончу.
То, что произошло дальше, Сергей долго пытался разложить на кадры, проанализировать. Но детали ускользали, движения размывались.
Он помнит только, что у Паука неожиданно в руке оказалась заточка. Затем он вбивает ее в горло Василию. Не втыкает, а именно вбивает, рывками погружая лезвие все глубже.
Потом разворачивает лезвие и тянет через гортань к себе.
И все это время кровь льется непрерывно, как из брандспойта. Глаза Василия бешено крутятся.
Паук опускается его осторожно на пол, и наблюдает, как тот медленно умирает, теряя кровь. Глаза, остановив вращение, закрываются, а рот выдает последний, хриплый выдох.
Затем, ни на кого не глядя, Паук спокойно кричит:
– Начальник, тут человек умер.
Прибегает часовой, затем сонный начальник караула, затем весь караул, и Паука под дулами выводят.
Долгое время все было тихо.
– Надеюсь, больше никто никого убивать не собирается? – спросил мент, подойдя к решетке, – мне расселять вас некуда, все отстойники забиты.
Это был начальник караула, уже тщательно выбритый и благоухающий. Рядом стоял часовой с кипой папок.
Посмотрев на вялое реагирование, он вздохнул и развернул принесенные «дела»:
– Я, – отозвался, сглотнув, Сергей.
– Так, – заглянул в папку мент и прочитал, – 158 часть 2. Пойдет. Переведенцев.
– Я, – отозвался грустно Историк.
– Да я уже понял, – сказал с ухмылкой мент и прочитал, – 103. Хреново.
Почитав еще немного, он удивленно вскинул глаза:
– Ни фига, за что ты так жену-то, Переведенцев?
– Изменила, – историк совсем сник.
– Слухай, – обратился начальник к часовому, – «отрезал голову жертвы ножовкой по дереву». Ну, ты даешь, Переведенцев. Топором надо было тюкнуть, меньше возни. Ты бы еще лобзиком отпилил.
– Не было топора, – Историк согнулся почти пополам.
– А, тогда ладно, – мент потерял интерес, – только не балуй тут, Переведенцев. Понял?
Всю оставшуюся часть до Архангельска Сергей старался поменьше спать, а если и дремал, то в полглаза.
Потом был город, «воронок» и наконец долгожданная зона.
Местность, огороженная забором, запреткой, еще забором, вышки с автоматчиками по периметру и много-много колючей проволоки и путанки.
Внутри было все для долгой жизни на изолированной территории. Несколько ветхих деревянных бараков, требующих постоянной штопки, столовая, единственное влекущее место, клуб для досуга с огромным серым экраном и, конечно, изолятор для большей изоляции непокорных, а так же больничка.
За пределами доступа заключенных, но в пределах зоны – караульные помещения, комнаты досуга, отдыха и другие отделения для обслуживающего персонала.
Здесь, как и в жизни, каждый зек искал свое место под солнцем, значительно теплее, чем у других, и боролись за него всеми доступными способами. А менты – как инопланетяне, проводящие эксперимент в этом мире скорби, настраивая жизнь в нужное русло, карая и милуя по своему усмотрению.
Для начала их расселили в очередной «отстойник».
Отстаивались они две недели. За это время подготавливались бумаги и места к заселению, а они привыкали к студеному зимнему климату и свыкались с неизбежностью провести здесь отведенные им законом годы.
И было первое свидание с родителями.
Осунувшиеся и постаревшие, они были все так же безмерно любимы. Как жаль, что он не мог обнять мать, пожать руку отцу, поговорить с ними без этого гама вокруг.
«Главное, чтобы ложку передали», – думал Сергей.
Как ни обидно было, но именно эта мысль превалировала над остальными.
В дороге он еще перебивался чужими. Но там никто не спешил, здесь же есть надо было скоро. Он и из корки хлеба ложку делал, которым затем черпал жидкую кашу, и из жести мастерил, даже пытался выточить из дерева.
Наконец всех распределили.
Заместитель начальника четвертого отряда показал место и дал матрац с подушкой и бельем.
– Ты чей будешь? – спросил молодой мужчина в цветной толстовке, сидевший на нижней шконке и потягивавший чай.
– В смысле? – не понял Сергей.
– В смысле – шнырь чей, – резко сказал мужчина.
Окружающие настороженно изучали ответы, повадки и решали, что они могут с него поиметь.
Это изучение слабых мест происходит на протяжении всей отсидки. Делать здесь людям было нечего, вот они и изучали друг друга и, если могли, покусывали себе в удовольствие, а кого могли проглотить – съедали.
– Чего молчишь? Чай не немой, – издевался мужик.
– Я не шнырь, – сказал тихо, но твердо Сергей, раскладывая матрац на кровати.
– Значит, будешь. Я тебе обещаю, как Слепой, – сказал мужик и добавил: – Здесь, в принципе, безопасно, только не спи.
Окружающие заулыбались, а Слепой повел беседу с пожилым мужчиной, лежащим на нижней кровати, что было верхом привилегированности, даже у обиженных.
– Кирилыч, оборзела нынче молодежь, а?
– Есть такая масть, Слепой.
– Старших не уважают, дерзят. Законы не соблюдают. Ладно, мы с тобой, старые уже зечары, можно сказать, волки без зубов. Вон, с тебя песок сыпется уже, а они-то чего хотят?
– Плохо, что не сахарный песок сыпется. А молодежь надо сажать за дерзость.
– На нож, кричали старики, на хуй, кричала молодежь, – продекламировал Слепой и обратился к Сергею: – Ты откуда будешь-то, с каких краев, деревень, помоек, ночлежек?
– О, это твой зема, Корост. Да и Браже тоже.
– Нет, мы с разных помоек, – сказал Браже, молодой парень со сплошь заколотыми синей тушью запястьями.
Так было постоянно, так будет всегда. Человека проверяли на соответствие обществу. Пусть даже он не будет ни с кем общаться, но отныне он живет рядом, и они хотели бы видеть рядом того, кого хотя бы могли выносить.