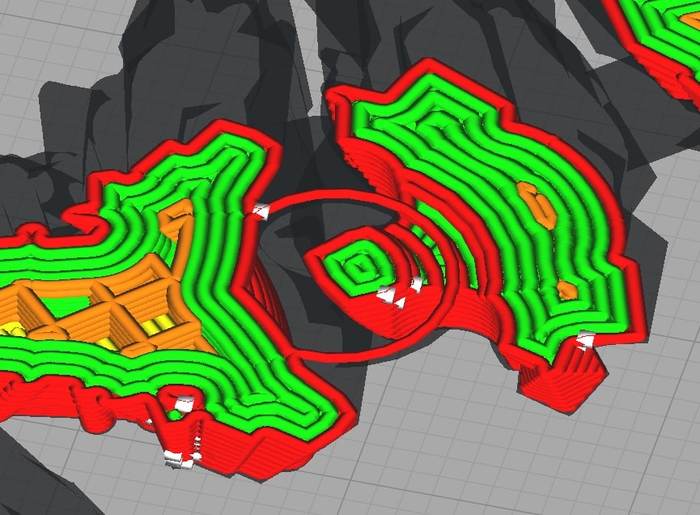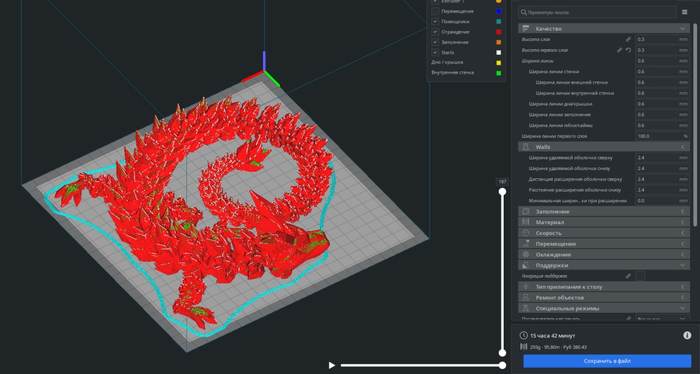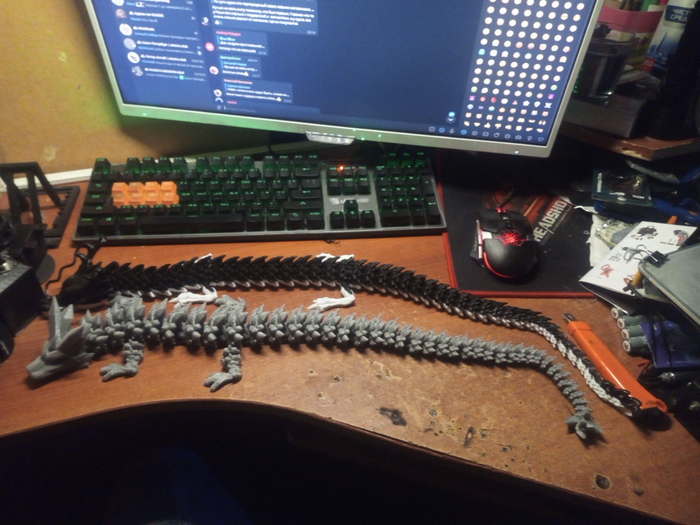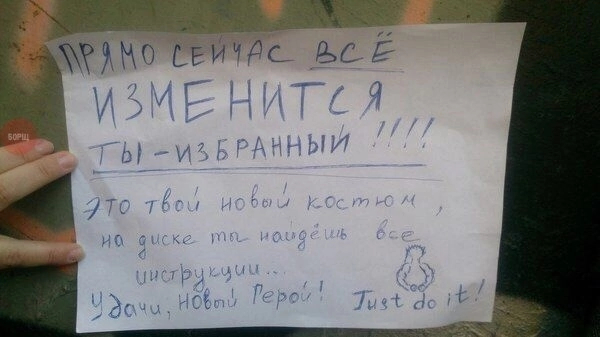История первая. Сказка старого сома.
Бульбунарий был нечистью абсолютно не домашней. Более того, выросшей в Сибири, а потому холод переносил даже лучше, чем жару. Снег его не пугал бы, если бы мокрые перепончатые ступни не примерзали к насту. Сидеть же в болоте, в котором обитало всего два мыслящих существа, одно из которых в это время года пребывало в состоянии полу анабиоза, было для молодого водяного смертельно скучно.
На счастье зелёного, у него имелась семья, всегда готовая прийти на помощь и раскрыть гостеприимные объятья.
Митька смастерил для друга сани, похожие на тупоносую лодку-плоскодонку. Тщательно натёртое воском днище прекрасно скользило по снегу, и Бульбуль рассекал на них по сугробам легче, чем пешком по траве, ловко отталкиваясь двумя заострёнными палками, к противоположным концам которых были заботливо приделаны лыковые петли.
***
Зимний лес, конечно, требовал заботы, но не так много, как летний. Леший, памятуя о том, что внуки, хотя и выросли в лесу, но ночным зрением не обладают, старался закончить дела до заката, а потом были долгие тёмные вечера. Ласкотуха старалась приготовить угощение посытнее и повкуснее, но, в конце концов, и они приедались.
Змейка большую часть времени спала в своём термосе на подоконнике, только изредка выбираясь в сени поохотиться. Дусино времяпрепровождение отличалось от Ши-шиного только местом дислокации. Кошка любила спать на Маринкиной кровати, спрятавшись за подушкой. Только жизнерадостный Васька, казалось, не замечал разницы между зимой и летом. Он таранил входную дверь своим широким лбом и выбегал на улицу, напуская в сени холода. Вдоволь наскакавшись и вывалявшись в снегу, леопард просил, чтобы его впустили обратно громким мяуканьем и царапанием двери.
Были, конечно, снежки и катание с горок. Иногда заходил Антон, успевший уже обзавестись невестой – хороших парней в деревне расхватывают быстро. Однако девушку в сторожку Тоха приводить не решался. На зимние каникулы должны были приехать Вадик, Кирилл и, конечно, Миха, о чём Марька помнила особенно.
А там и весна не за горами – заметно прибавится день, начнут подниматься соки по стволам деревьев. Чаще будет показываться Солнышко, обновляющийся лес потребует большей заботы.
Но сейчас шёл декабрь, самый тёмный месяц в году, и вечерами это особенно чувствовалось.
Дед в пол уха слушал бубнёж телевизора, лёжа на печи, ласкотуха занималась своим бесконечным рукоделием. А вот молодёжи было скучно. Игры, которые они придумывали в детстве, теперь уже не занимали, телевидение и интернет с их бесконечными зимними перебоями сети, тоже надоели. Потому-то вечерние визиты Бульбунария стали настоящим событием, которого подростки ждали с нетерпением.
Как-то раз Бульбуль рассказал историю, услышанную им от сома, и с тех пор сказки сома стали любимой зимней традицией.
Леший сказки рассказывать не любил, потому что боялся напугать внуков событиями своей жизни. А те, которые можно было рассказать, давно уже запомнились наизусть. Ласкотуха – по старости – мало что помнила. А главное – и для одного, и для другой это были не сказки, а истории из жизни. Ну, кому из людей, если ему вдруг было бы дано жить так долго, захотелось бы вспоминать, как он триста лет назад огород городил, или погреб копал? Да также, как и теперь.
Нет, конечно, жизнь менялась, особенно два последних века, но об этом дети знали чуть ли не лучше, чем старики: телевизор и ноутбук (спасибо цыганам) в доме имелись.
***
Бульбунарий угостился свежей рыбёшкой, которую Митяй специально для него ловил в проруби (река, в отличие от болота, на зиму покрывалась толстой коркой льда), закусил мочёной брусникой и уселся на бочонок подальше от печи, накрывшись конёвым одеялком, заботливо смоченным ласкотухой в холодной воде.
Васька улёгся ему под ноги, стоически снося капли воды, падающие на него с одеяла, Маринка с Митькой забрались с ногами на деревянную кровать. Ласкотуха заняла своё законное место на сундуке, и даже дед слез с печи и уселся на лавку возле стола.
Оценив оказанное внимание, Бульбуль выдержал эффектную паузу и начал рассказ.
***
Когда сом ещё резвился со своими братьями и сёстрами, такими же, как и он, мелкими рыбками возле надёжного укрытия под корягой, озеро, в котором он вылупился, было большим, просторным и очень живописным водоёмом. Располагалось оно также, как и сейчас – на окраине большого села.
Селяне в те времена относились к озеру бережно. Во-первых, знали цену воде, во-вторых, верили в неминуемое наказание за неуважение к силам природы. Суеверия-то не всегда вред приносят.
Для домашней водоплавающей птицы водоём был глубоковат, а вот воду брали и для скотины, и на полив, и для собственного пользования. Ну, и рыбалка, конечно. Хорошая рыба в озере водилась.
Со временем, когда самые резвые и любопытные сестрёнки и братишки сома начали отплывать далеко от родной норы, они с удивлением стали замечать необыкновенные явления. То там, то сям в разных местах озера прямо сверху, можно сказать «с неба», спускалась еда и повисала в воде, будто бы ожидая, чтобы её проглотили. Любопытные сомята начали устраивать засады, карауля удивительную еду, и, наткнувшись на оную, бросались наперегонки, чтобы первым схватить диковинный трофей.
Но небесная еда, как оказалось, обладала ещё одной тайной…
Удачливый охотник, захватив добычу, взмывал к самой поверхности воды словно влекомый неведомой силой, и исчезал. Некоторое время его не было видно, а потом он с тихим плеском возвращался в водоём, и, придя в себя, хвастался, что побывал на небе.
Конечно, глупышкам было невдомёк, что рыбаки выпускали обратно такую мелочь, давая ей возможность подрасти, а так как вылазки эти совершались в обход строгого маминого запрета, то и спросить, что к чему было не у кого.
Время шло, и подросшие охотники, взмывавшие в небо, перестали возвращаться обратно. Оставшиеся сомики пытались угадать, что же случилось с их братьями. Некоторые предполагали, что там, на небе, много вкусной еды и братья просто не хотят возвращаться. Другие говорили, что родственников съели большие небесные рыбы. Споры доходили до потасовок, и молодые сомы плыли к матери в надежде что та их рассудит, но мать только смотрела вверх своими грустными глазами и молчала.
Наш сом был мечтателем и философом. Никогда не успевая догнать братьев и сестёр, он начал задумываться, зачем вообще нужна эта кутерьма. Еды в озере было достаточно, азарт погони его не привлекал. Сом любил рассуждать и наблюдать. А ещё ему нравилось разговаривать с мамой. Мама рассказывала ему много интересных историй и объясняла то, до чего сам он додуматься не мог.
Вот и эту печальную сказку рассказала сыну мать одним осенним вечером, перед отходом в зимнюю снулость. Случилась эта история, когда сомиха сама была очень молода.
***
Тем далёким летом, в одну не прекрасную ночь, в озере поселилась навка.
Утопленники в водоёме появлялись и раньше, некоторые из них становились нежитью. Но прежние мавки, навки и русалки уходили в реку или болото, поближе к таким же, как сами. А эта осталась.
Днём плавала под водой, отдыхала в водорослях, а ночью выходила на поверхность. Навка облюбовала себе укромный бережок, закрытый с трёх сторон густой зеленью, и выбиралась на него в темноте. Как и положено, расчёсывала волосы гребнем из хребта большой рыбы и пела свои тоскливые песни.
Чернобог наделяет девушек, ставших нежитью, сказочной манящей красотой, даже если при жизни они таковой не обладали. Нужно это для того, чтобы детям Нави сподручней было губить души жителей срединного мира.
Но навка никого губить не хотела. Она и навкой становиться не хотела. Девушкой при жизни она была тихой и скромной. Доведённая до крайней точки отчаяния, она думала только о смерти. Чёрной, ласковой смерти, которая прекратит все её девичьи страдания и подарит забвение. Но мир решил иначе. Видно, за грех свой непрощённый получила она вечное существование, одиночество и бесконечную горькую тоску.
Мстить навка не стала, кому мстить, коль сама виновата. Даже пару раз подтолкнула к берегу потерявших уже всякую надежду тонущих бедолаг, которые, впрочем, ничего так и не поняли. Людей она не только не беспокоила, но и избегала. Однако, несмотря на всю предосторожность навки, местные нежить в озере прочуяли, и вскоре по селу распространились слухи о таком из ряда вон выходящем событии.
Селяне качали головами, крестились и даже привешивали кресты к вёдрам, которыми черпали воду. А после заката водоём и вовсе обходили стороной.
Зиму перезимовали, слава Господу. А к лету о страхах подзабыли, снова стали рыбачить и купаться, особенно молодые и пьяные, те, кому и сам чёрт не брат. Ну, а как не купаться-то, жарко ведь.
И надо же так случиться, что люди в озере тонуть начали чаще, чем в другие годины. И кому объяснишь, что нонешнее обильное весеннее половодье размыло дно в той части озера, где бил исконный ключ, и тот забил ещё шибче. Холодная ключевая вода сводила ноги несчастным, подплывшим слишком близко, и они камнем шли ко дну.
Но это ведь надо мозгами раскинуть, чтобы понять. Куда как удобней всё на нечисть свалить.
Перебрал охотник с горячительным зимой в лесу, уснул под деревом, да и замёрз. Кто виноват? Леший злобствует. Не разглядел грибник или ягодник, увлёкшись добычей, под ногами хлипкую почву, увяз в болоте – ясно дело, водяной бедокурит. Угорел кто по вечной пьяной беде в бане – обдериха прибрала. А кто же ещё?
Вот и тогда виноватого враз нашли. Село загудело, взъерепенилось, стали кумекать, что делать. В местном храме лбы об пол расшибали. Да только что же тут придумаешь? Озеро не сожжёшь и не засыплешь, нежить не выловишь, на то она и нежить. Так на проклятиях и застряли.
***
Молодой местный парень Степан сидел на бугорке возле самой воды.
Раскинувшееся перед ним безмятежное водное пространство дышало таким покоем и умиротворением, что хотелось погрузиться в него с головой, стать его частью. В предзакатных лучах солнца вода играла разноцветными бликами. На поверхности, спрятавшейся в густой сочной траве противоположного берега заводи, благоухали свежестью нежные кувшинки. Тени от прибрежных кустов и деревьев старательно тянулись к середине водоёма, собираясь в скором времени поглотить его полностью.
Но Степан знал: эта благодать обманчива, в озере поселилась смерть.
Старшие братья и сёстры парня уже обженились и жили своими домами. Батя умер пару лет назад, сдюженный непосильным трудом и непомерным пьянством. Степан остался с матерью, младшей сестрёнкой и братом-погодкой.
Стёпка любил брата, с самого детства они были вместе. Вместе росли, вместе играли, вместе трудились на бесконечном поприще крестьянского быта. А теперь брата не стало.
В самом конце мая Федя утонул. Задурачившись на берегу с другими парнями, Степан не заметил, как и когда брат исчез под водой. Никто не услышал ни малейшего вскрика. Когда Феди хватились, Степан до посинения нырял под воду, но ничего так и не смог увидеть в заросших водорослями тёмных глубинах.
Брата выудили баграми. Синего, окоченевшего, скрюченного так, что еле удалось разогнуть, чтобы положить в гроб.
Мать убивалась, сестрёнка рыдала, а у Степана в груди словно водрузилась раскалённая кочерга, которая не давала ему есть, пить, спать, дышать. Каждый вечер он приходил к озеру и сидел на берегу до заката, пристально глядя на темнеющую воду, как будто хотел отдать той всю боль, которую она ему причинила, или забрать то, что она отняла.
Навка сразу приметила парня, почуяла его нетерпимые страдания, так перекликающиеся с её собственной тоской, и ниточку связи с этим живым, крепнущую с каждым вечером. Она стала осторожно выныривать из воды поближе к тому месту, где обычно сидел Степан. Осторожно сквозь заросли камыша разглядывала его лицо.
Навке очень хотелось утешить парня, сказать ему что-нибудь доброе, но она боялась, что человек не поймёт её порыва. Слишком хорошо она знала, как её не любят и боятся.
Но, несмотря на все девичьи опасения, обнаружить себя ей всё-таки пришлось.
Тот вечер был ненастным, ветер терзал и гнул деревца и кустарник прибрежной зоны. Хрупкие ракиты бросались ветками, а по поверхности воды хлестали мелкие, но частые косые нити дождя. Навка даже подумала, что парень сегодня не придёт. Но он пришёл, молча, как всегда, встал на берегу, сжатый, словно пружина. В глазах его чернела пропасть.
Медленно, как во сне, занёс ногу над водой, будто бы собирался шагать по водной глади. И, не успела навка опомниться, парень упал в озеро. Несуществующее сердце девушки болезненно сжалось. Она не могла, не могла позволить этому человеку повторить свою ошибку, и в следующее мгновение навка нырнула вслед за парнем, обвила руками так непривычно тёплое тело и повлекла к поверхности.
Когда голова ничего не понимающего Степана показалась над водой, он начал надрывно кашлять, вяло перебирая руками и ногами. Однако, увидев рядом с собой бледное лицо, почти светящееся в темноте, хрипло заорал, забыв о кашле, задёргался, вырываясь, и, проявив поистине кошачье проворство, быстро вскарабкался вверх по размокшему от дождя берегу. Домой парень бежал не оборачиваясь.
Навка не винила себя, она знала, что всё сделала правильно, но менее горько ей от этого не становилось. Она была уверена, Степан больше не придёт.
Тот же, вернувшись домой, не сказал никому ни слова о случившемся. Мать и так боялась, что сын умом тронется после гибели брата. Промокшую до нитки одёжу Степан списал на непогоду, а настроение своё ему давно объяснять не было нужды.
Два дня он не выходил за околицу родного дома. Вечером третьего же не выдержал. Слишком много появилось вопросов, которые страшно жгли и без того измученное сердце. Стёпка понял, что если не получит на них ответа, то изведётся совсем. А потому, подавив сковывающий страх снова направился к озеру.
Оказавшись на берегу, он долго ждал, пристально вглядываясь в заросли травы, но ничего не происходило. Тогда, собравшись с духом, Степан тихонечко позвал:
- Эй! Покажись! Я не стану кричать, обещаю! Мне с тобой поговорить надо…
Совсем близко раздался тихий всплеск, из воды показалась голова. Степан дёрнулся, навка подалась назад. Стараясь унять охватившую его дрожь, Стёпка молча смотрел на красивое лицо и белые плечи утопленницы, обрамлённые мокрыми волосами. Девушка первой нарушила молчание. Не смея поднять глаз, она сказала:
- Знаю, о чём спросить хочешь. Не я твоего брата утянула, это всё ключ холодный. Я живых не губила, даже спасала кого могла, как вот тебя давеча. А брата твоего не сумела, больно быстро его смерть взяла. Видно, сердечко от студёной воды захолонуло.
Тяжело вздохнув, Степан опустил голову, не зная, чего больше принёс ему этот ответ – боли или облегчения. Но, вспомнив про второй вопрос, снова поглядел на навку.
- Все утопшие в озере остаются? – Сиплым голосом спросил он.
Девушка подняла на него взгляд, в свете месяца глаза влажно сверкнули. Она отрицательно помотала головой.
- Твоего брата здесь нет. – И, опомнившись, добавила: - Это хорошо! Плохо быть живым мёртвым, как я!
Парень осел на землю. Навка подплыла поближе.
- Не убивайся так, - попросила она. – Ему там лучше, чем тебе.
- А ты это откуда знаешь?
- Люди говорят.
- Люди… - Степан отвернулся.
***
С того вечера навка виделась с парнем постоянно. Каждую ночь Стёпка проводил у озера. Давно не имевший возможности выговориться, он рассказывал и рассказывал девушке о брате, вспоминая и радости, и беды, пережитые ими вместе.
Навка впитывала каждое слово, стараясь утешить Степана и взять себе часть его боли. И боль того действительно отступала. Вскоре он начал говорить о смерти брата спокойнее, с тихой грустью, и всё больше стал рассказывать о жизни в деревне. Девушке было интересно всё. Она осмеливалась уже выходить из воды стыдливо прикрываясь волосами, и садиться рядом с парнем на берегу.
И, что ж тут поделаешь, дело-то молодое, настал час, когда уста их слились. Губы утопленницы – о чём, впрочем, Степан и не думал уже, - не показались ему неприятно холодными, а объятия подруги и вовсе горячили тело лучше крепкого вина.
Ночи для Степки стали такими же жаркими, как и дни, дни, которым он так горячо желал поскорее закончиться. Когда Солнце, наконец, скрывалось за лесом, парень, сгорая от нетерпения, бежал к озеру, где его ждали не менее трепетно.
***
Бульбунарий замолчал, потянулся, слез с бочонка прямо на задремавшего Ваську, который от неожиданности дёрнулся всем телом. Однако зелёный, не обращая внимания на разбуженного леопарда, мокро протопал до ведра, зачерпнул целый ковшик воды и с удовольствием напился, вылив остаток себе на голову.
Дед неодобрительно посмотрел на образовавшуюся на полу лужицу, но промолчал. Ласкотуха, покинув сундук, начала затирать воду тряпкой. Митька заёрзал на месте.
- А дальше? Ну пожалуйста!
- Что, интересно? – Довольно спросил ничуть не смущённый Бульбуль, вскарабкавшись обратно на бочонок.
- Конечно, интересно! – Досадливо проговорила Марька, - рассказывай!
Но вредный водяной дождался, когда бабка вновь усядется на свой сундук, и только после этого продолжил.
***
Погружённый с головой в свои чувства, Степан ничего и никого вокруг себя не замечал, в отличие от всех остальных селян. Да и как иначе на селе могло быть? Стали земляки парня взглядами провожать, да между собой обсуждать.
Кто считал, что тот себе подругу нашёл из местных, гадая, на кого подумать, кто решил, что рассудком бедолага подвинулся и с утопшим братом ходит разговаривать. Но были и те, кто про нечисть вспомнил.
Проверять, однако, не решались – боязно было – да и уставали люди за день, лето, как ни крути, работы много. Только ясное дело, что пуще всех мать Стёпкина волновалась: сын-то домой с петухами возвращался, день совсем осовелым ходил, а к вечеру глаза гореть начинали и взор всё в сторону озера окаянного воротился. К кому ещё было обратиться бедной женщине? Если бы муж жив был, это другое дело, а так…
Обратилась вдова к батюшке сельского прихода, во всём ему пожалилась, все свои опасения рассказала. Батюшка, как и полагается, внимательно выслушал прихожанку, да и велел сына к заутрене воскресной привести.
Как уж мать Степана уговаривала, про то нам не известно, да только уломала сына, отстоял он заутреню. А уж после проповеди священник его и заловил.
- Что же это ты, Степан, службы не посещаешь? Али требы у тебя нет к Господу обратиться?
Стёпка как мог выкручивался, но тайны своей священнику не выдал. Да только тот так просто отступать не собирался, про походы к озеру заговорил. Пришлось врать парню, что, мол, по брату скучает и утраты забыть не может. Вот, дескать, по той причине озеро его и влечёт.
Священник-то не дурак был, вид сделал, что поверил, только на службы Степана ходить обязал. А про себя решил дело этого так не оставлять, и на следующую же ночь не побоялся и проследил за малым. А проследив, обрадовался.
Давно уже люд сельский священнику, что называется, глаз колол – мол, десятину исправно платим, а ты народ от нечисти оградить не можешь! Какой же ты после этого Божий посредник? А тут она – нечисть эта – сама в руки идёт, да ещё и в чужие! Чужими-то руками, как известно, жар загребать приятнее.
Медлить не стал, другим же днём сам к Степану наведался, да к стенке того и припёр. Сказал, что всё про него знает, что сам Диавол в образе девки срамной, нечистой, душу Стёпкину искушает. А он – батюшка, на страже душ невинных стоять обязан, а потому не позволит такому хальству в своём приходе твориться.
Горячо Степан оправдывался, клялся, что навка та хорошая, про спасенных ей людей рассказывал, да про ключ подводный холодный, но священник твёрдо на своём стоял:
- Бесы тобою крутят! Гляди, Господь разгневается, накажет! Да и односельчане прознают – проклянут! Сам не желаешь от дьявольского наваждения избавиться – люди добрые помогут!
И, не дожидаясь Стёпкиного прозрения, батюшка на следующей же проповеди прихожанам объявил, что знает кое-кого, кто с нечистью якшается. А стало быть, ежели этот кое-кто за ум не возьмётся, да в делах своих богомерзких не раскается, то, видно, придётся всем миром навалиться и душу его пропащую спасти.
Как добрые люди душу его спасать будут, Степан очень хорошо себе представлял. Ладно ещё, если его одного на вилы поды́мут, а то ведь могут и в дому́ спалить, да со всеми домочадцами – на всякий случай. Страшно стало парню, аж в животе похолодело при мысли, что до спасения этого дойдёт. Сельчане на него и так уже зверьём смотрели, да восле́д шипели. Тут только клич кинь – и всем скопом накинутся, а клич-то того и гляди, с чьей-нибудь глотки да сорвётся. Не дай Бог ещё какой бедолага утопнет, народ не остановишь.
Навке Стёпка рассказал всё как есть. Уговаривал уйти подальше в лес, в болота, объяснял, что не справится им с людской злобой, но та только плакала и умоляла не гнать её, клялась, что и ночи без него – любимого, не продержится. Обещала всех тонущих спасать, да на глаза людям не показываться, звала с собой, коли ей уже уйти придётся.
А ему боязно было в лес, не нежить всё-таки, да и дом оставлять не хотелось. Оно, может, братья старшие о матери с сестрёнкой и позаботятся, а самому Степану как жить? Сердце, небось, изболеется, да ещё с нечистью!
Навка, плача, обнимала его своими нежными руками и прижималась всем телом. После этого слова у парня застревали в горле, а мысли улетучивались, и появлялись только после возвращения домой. Тогда батюшкино предупреждение снова повисало над головой занесённым топором.
А вот сам батюшка зря времени не терял, и, пока Стёпка зазнобу свою уговаривал, с народа деньги собрал. На эти деньги всем селом заказали кузнецу изготовить серп из серебра, жертвенный с зазубренным краем. Серп этот поп лично освятил, после чего саморучно Степану передал. Ничего при этом служитель Божий не сказал, только в глаза парню посмотрел пристально. От взгляда такого повеяло костром святым, да послышался треск лопающейся кожи. Его, Стёпкиной кожи.
Наступившей вслед за этим событием ночью Степан любимую уговаривать не стал, только обнял её крепко и целовать начал так, как только в последний раз целуют. Ничего не заподозрила девушка, обрадовалась, растаяла в объятиях желанных.
А когда она, блаженно прикрыв глаза, откинулась на шёлковую прибрежную траву, достал парень из холщового мешка серп, да и отсёк красивую головку от белого тела подруги.
***
Бульбунарий замолчал, оглядывая проникновенным взглядом присутствующих.
Митька, вытянувшись в струнку, ронял из широко открытых серых глаз крупные слёзы. Маринка, закусив губу, отвернулась к стене, пряча заплаканные глаза. Даже ласкотуха как-то особенно сосредоточенно считала петли уже довязанного носка. Один только дед, глядя в стол, кивал каким-то, только ему известным мыслям.
Бульбуль помолчал ещё немного, наслаждаясь произведённым впечатлением и продолжил рассказ.
***
Ношу свою страшную Степан в дом не понёс, оставил в сараюшке, что у самой двери, и как был, не раздеваясь, на кровать повалился. Только не спалось извергу этой ночью, не брал сон. Ноги, руки от жути сводило, а в голове стон навкин продолжал звучать – последний, удивлённый.
Не свет, не заря вышел лиходей во двор, да поклажу давешнею из сарая достал. То ли убедиться в содеянном хотел, то ли в последний раз лицо любимое увидеть. Раскрыл мешок – а в нём тина болотная в мутном студне плещется. Совсем худо Степану сделалось, поджилки затряслись от страха, что батюшка ему не поверит.
Разбуженный священник долго разглядывал содержимое холщового мешка на церковном дворе. Принюхивался, задумываясь. Потом вспомнил что-то, и сходил в притвор. Вернулся, неся в руках склянку со святой водой из самой исконной земли, привезённой паломниками. Осторожно, дрожащей рукой брызнул драгоценной водицею в мешок. Зашипела муть окаянная, задёргалась. Батюшка облегчённо перекрестился.
Степана похвалил, сказал, что верит теперь- добрый тот христианин, но епитимью наложил, конечно, что б впредь неповадно было.
На первой же после этого дня службе батюшка объявил прихожанам, что нечисти поганой больше в селе нет. Что справились они всем миром да Божьей помощью, и что так впредь и должно быть. Только запретил поп купаться в том месте, где ключ бил, а почему – не объяснил, однако. Да людям на радостях и не до вопросов было.
Всё бытьё в селе своим чередом пошло, вот и Стёпка стал понемногу к прежней жизни возвращаться. Днём работал как вол, ночью стонал птицей-выпью. Люди мать его успокаивали, говорили ждать нужно и молиться, что бы бесы сына в покое оставили. На том все и сходились.
Вот и ещё одну страду сдюжили, а за ней ещё одну зиму встретили. Разговоры про нечисть давно поутихли, сплетницы и сплетники вернулись к обычному перемыванию косточек односельчанам. Стёпкиной семье доставалось не больше и не меньше других, всё честь по чести.
Только вот поздним вечером последнего воскресенья масленицы в дверь их дома постучали. Младшая сестрёнка побежала открывать. В тот день на материны блины приехали старший брат Степана с брюхатой молодухой и сестра, решившая в последний день масленицы отдохнуть от мужа и детей. Гости в блаженной дремоте расположились в горнице. Возвращаться этим днём никто не собирался – темнело всё ещё рано. Да и обильное материно угощение не пускало в дорогу.
Девочка распахнула дверь и замерла на пороге. Прямо перед ней, на грязном, кое-где подтаявшем мартовском снегу, стояла абсолютно голая женщина, прижимая к себе голенького же младенца. В темноте тела их словно бы светились. Маленькая хозяйка не успела ещё ничего сказать, когда неожиданная гостья наклонилась и поставила ребёнка на снег. А тот, несмотря на то, что имел от силы дня два от роду, шустро побежал на своих кривых ножках прямо к двери.
Девочка охнула, машинально наклоняясь к младенцу и одновременно переводя удивлённый взгляд на женщину. Только сейчас она поняла, что у женщины нет головы.
Обеспокоенный долгим отсутствием сестрёнки, Степан вышел в сени и в ужасе шарахнулся назад, сильно ударившись спиной о стену, не почувствовав этого. Следом за ним появилась мать и закричала страшно, бросаясь к распростёртой на полу дочери, руки и ноги которой подёргивались в конвульсиях. К шее девочки присосалось, урча, какое-то существо, отдалённо напоминающее грудного ребёнка.
На крик матери прибежали брат и сестра с невесткой. Женщины заголосили, вжавшись, как и Степан, в стену, а брат, быстро сообразив, кинулся в чулан за топором. Когда он вернулся, девочка уже не подавала признаков жизни, а маленькое чудовище с небывалой мощью терзало из последних сил защищавшуюся мать.
Мужчина закричал и замахнулся топором, который со всей силы врезался в низкую потолочную балку. Крик оборвался. Колун, слетевший с топорища, ровно посередине расколол бра́тову макушку.
Сестра грузно, плашмя упала на пол без чувств, молодуха, согнувшись пополам, обхватила руками свой живот, мыча от боли. А жуткий младенчик, покончив с матерью, обернулся на Степана, плотоядно улыбнувшись своим окровавленным ротиком. Степан тяжело опустился на колени.
***
В самую последнюю ночь масленицы в селе случилась страшная беда – без видимых причин, в одночасье загорелся дом. Пламя поднялось так быстро, так жутко ревело и стонало, что выбежавшие из своих домов соседи боялись подойти близко. За считанные минуты жилище сгорело словно стог сена, и рухнуло, погребая в раскалённом чреве всех, кто в нём был.
И хотя огонь не нанёс никакого ущерба соседним строениям, потрясённые крестьяне долго не могли успокоиться. Тем более, что некоторые селяне, разбуженные той ночью криками и заревом пожара, говорили, что видели кое-что небывалое: по просёлочной дороге в сторону леса шла обнажённая женщина с грудным дитём на руках. Кое-кто даже уверял, что у женщины не было головы.
***
Повисла звенящая тишина. Даже Васька, очевидно, почувствовав всеобщее напряжение, перестал храпеть.
Ласкотуха, мстительно поджав губы, распускала носок. Наконец, Митька нарушил молчание.
- А с младенчиком что потом стало?
- Что, что, - вдруг заговорил леший, - знамо дело, что! Кол ему осиновый промеж рёбер воткнули. Только это уже опосля было, сперва-то он много делов натворить успел. Чего же хорошего от живого и мёртвого родиться может? Никого не щадил, ни люд, ни скотинку. Сельчане тогда шибко разбушевались, церкву сожгли. Потом, конечно, раскаялись, всё у них так, новую построили. Священника им нового из епархии прислали. Старый-то ушлый был, сбечь успел, так никто и не знает, что с ним потом сталось.
- Так, вроде, сороки трещали, что в болоте он утоп, - неожиданно вступила в разговор ласкотуха.
- Не-е-е, - протянул дед, - если бы в болоте, я бы знал, точно!
- Так, может, не в нашем, в чужом каком? – Предположила бабка.
- Может-то оно может, - согласился старик, - да только сорокам у меня веры нет, врут больше.
Бульбунарий помолчал с минуту, переваривая неожиданное продолжение собственной сказки. А потом вдруг вспомнил о Лобасте, представив себе, какой переполох она поднимет, если, проснувшись не обнаружит в болоте своего подопечного и засобирался. Он скинул с плеч уже полусухое одеялко и положил его на лавку. Затем мимоходом выгреб из стоявшей на столе плошки оставшуюся бруснику и зашагал к выходу.
Семья столпилась в сенях, провожая родственника. Митька обнял друга на прощание, Маринка махала рукой, приглашая зелёного заходить почаще, а ласкотуха шептала напутственные обережные камлания. Леший, стоя позади всех, бурчал, чтобы прощались поскорее, не то внуки простудятся и холода в дом напущают.
Васька выскочил провожать Бульбуля. Играючи, он настырно пытался зацепить скорые сани своей когтистой лапой, но далеко от дома отходить не стал.
Не кошачье это дело – далеко от дома уходить.