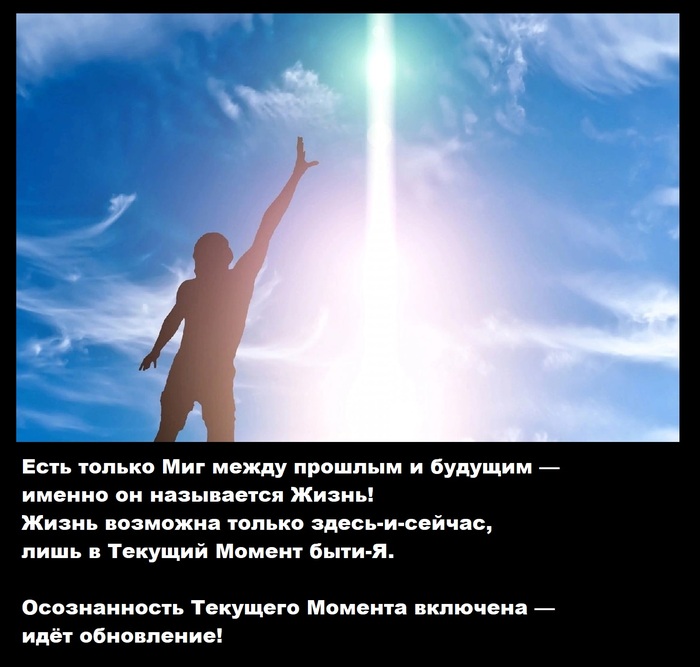Научная фантастика – религиозный жанр.
И нет, я сейчас не о том, что атеизм – тоже религия. Я о другом.
Авторы рассказывают истории. Хорошие авторы – исследуют темы. Они ставят вопросы и вместе с читателем ищут ответы на них.
Поскольку это хорошие авторы – они подбирают для своих тем именно такие вымышленные миры, где их можно было бы исследовать как можно глубже, интереснее и нагляднее.
Фэнтези, например, идеально подходит для историй, посвящённых внутренним изменениям. В мире, где есть магия, путь от слабости к силе, от неведения к знанию, от несвободы к свободе превращается в историю о рождении великого героя, способного изменить мир.
Научная фантастика – истории, происходящие в мире планет и звездолётов. Человечество покоряет космос. Встречается с другими формами жизни, невообразимо далёкими от нас. Создаёт мыслящие машины. Побеждает болезни, старость и смерть. Сталкивается с вызовами галактического масштаба.
И какие же темы оказывается удобнее всего исследовать в этом сеттинге?
Истории о встрече с инопланетянами – это попытки ответить на вопрос: «Что такое человек?».
Что делает людей – людьми? Что отличает нас от животных? Возможен ли нечеловеческий разум? Будут ли разумные существа из других миров похожи на нас (пусть и отличны внешне), или же мы, выйдя в космос, окажемся в окружении непостижимых чудовищ, с которыми невозможен никакой контакт?
Истории о роботах – взгляд на ту же тему с другой стороны.
Что отличает человека от машины? Есть ли что-то ещё, кроме разума? Будет ли разумная машина полноценным человеком, или же она останется бездушной? Или, может быть, она сумеет стать человечнее своих создателей – у неё не будет первородного греха, обрекающего людей творить зло даже добрыми делами?
Когда робот спрашивает у человека: «Создатель, скажи – у меня есть душа?» – на самом деле это автор задаёт тот же вопрос Богу.
Истории о могуществе технологий – попытки ответить на вопрос: «Что такое Бог?».
Что такое бессмертие, всемогущество, всеведение? Возможно ли обрести их – и обрадуется ли этому обретший? На что похоже существо, прожившее миллиарды лет, для которого уже не осталось вопросов на ответы?
Что будет, если человек станет богом? Останется ли он при этом человеком? Превзойдёт ли недостатки человеческой природы? Превратится ли в чудовище, не ведающее сострадания и любви?
Что произойдёт, если мы однажды встретимся с существами, уже достигшими божественности? Какими они увидят нас? Как решат с нами поступить? Сочтут ли достойными когда-нибудь вступить в их число – или уничтожат, как неисправимых грешников?
Ну а если само человечество приблизится к совершенству – как нам поступать с другими народами, стоящими неизмеримо ниже нас? Следует ли нам тянуть их на свой уровень, опекать, помогать, защищать – или же лучше предоставить их своей участи и лишь беспристрастно наблюдать, как они сами проходят тот путь, который прошли мы?
А что если нас самих кто-то создал? Зачем он это сделал – и расскажет ли нам об этом когда-нибудь? Кто мы для своего Творца – дети, скот, пища, игрушки?
Какой финал ждёт человечество в невообразимо далёком будущем? Уничтожат ли нас наши собственные творения? Или наши потомки вознесутся в славе? Или же вознесение суждено лишь крохотному избранному меньшинству, а все остальные обречены на безнадёжное прозябание в ожидании конца?
Всё это – религиозные вопросы, вопросы веры. И авторы, которые их задают, без всякого стеснения пользуются религиозными образами и метафорами.
Обо всём этом писали – и писали много – лучшие, самые известные сай-фай авторы. Кларк, Азимов, Шекли, Хайнлайн, Адамс, Стругацкие, Лем, Каттнер, Брэдбери, Дик – и десятки других.
Эти же темы непременно возникают и в научно-фантастическом кино. «Звёздные врата», «Звёздный путь», «Вавилон-5», «Матрица», «Чужие»...
И это я ещё не начинал говорить о сеттингах, где вера и религия присутствуют открыто и играют основную роль в сюжете – а таких тоже немало, вспомнить хотя бы «Дюну» или «Хроники Риддика». Или о тех, где научно-фантастический антураж служит лишь маской для волшебного мира, как «Звёздные войны» или «Вархаммер 40к». Они, из-за своего промежуточного положения, вполне могут поднимать вопросы, свойственные и фэнтези, и научной фантастике.
Научная фантастика – новый миф. Её авторы – те, кто отверг Бога своих отцов и немедленно сам вышел на поиски Бога.
И – ах, да поможет им Бог!