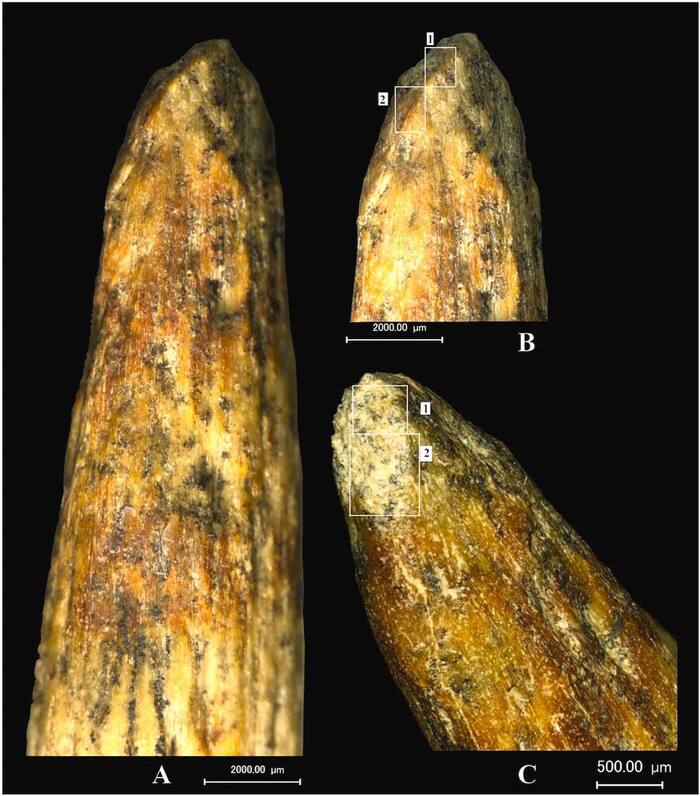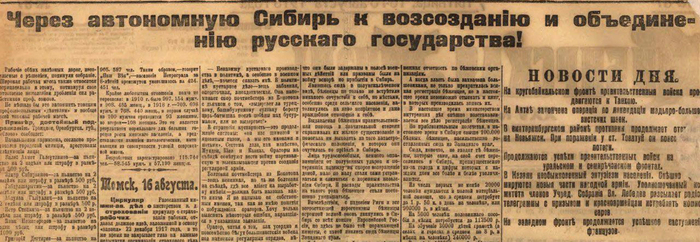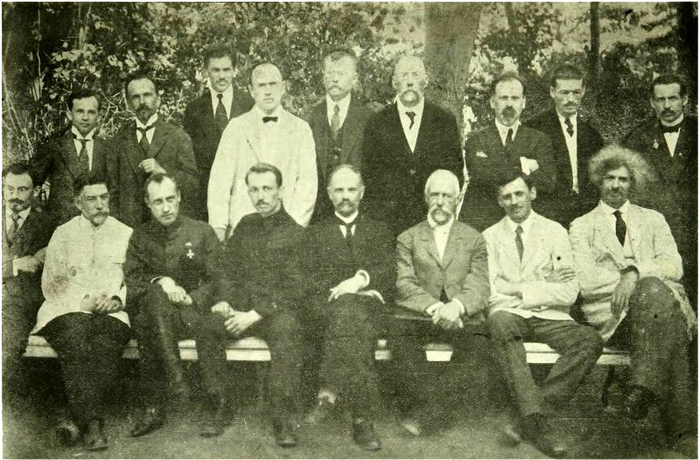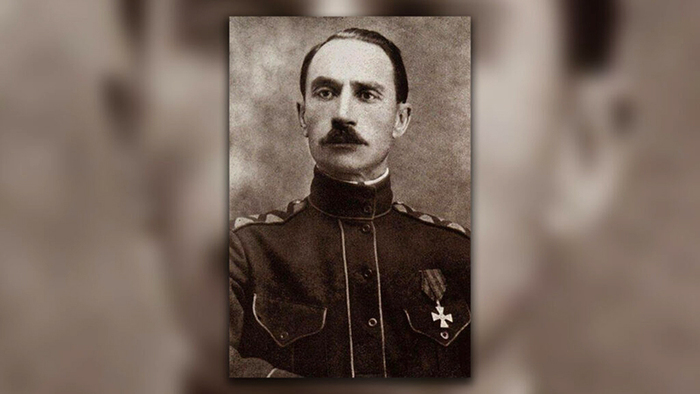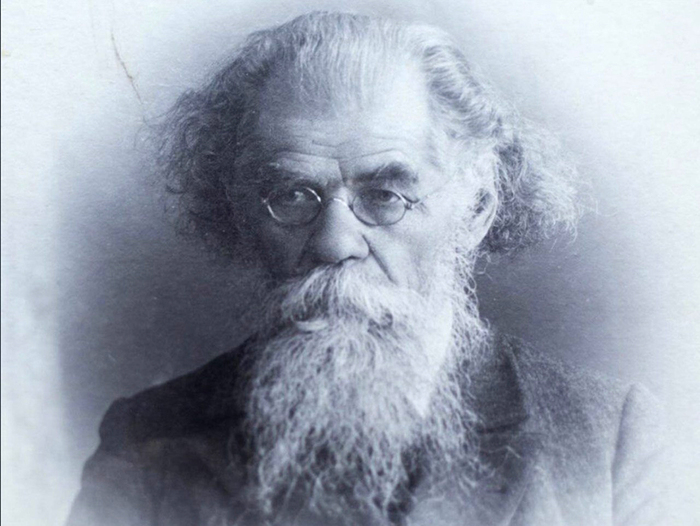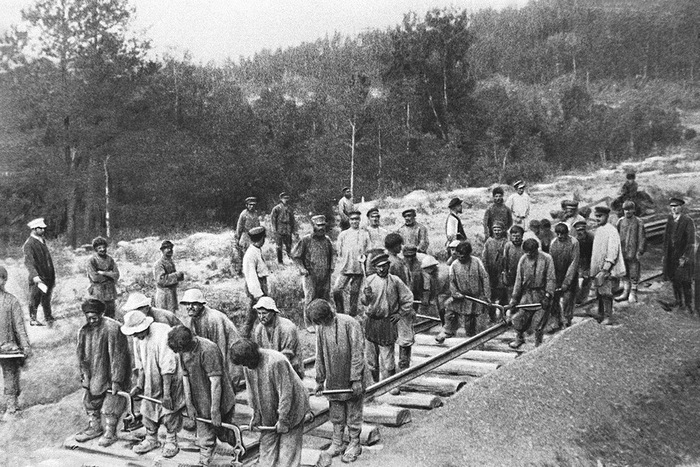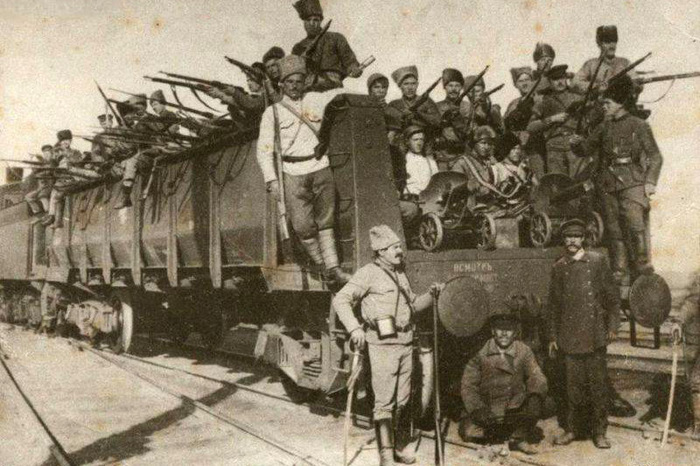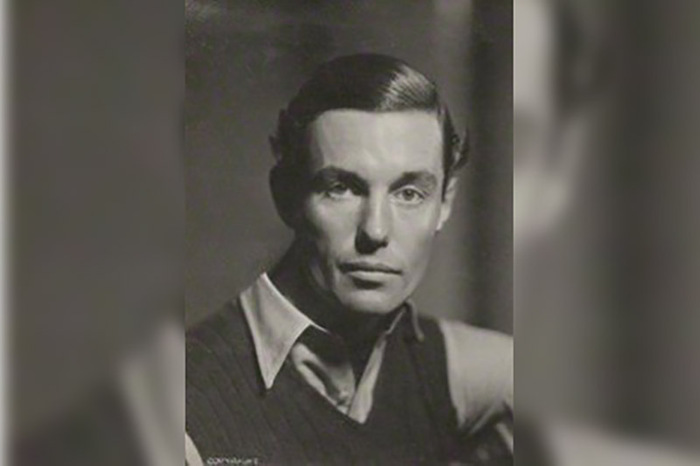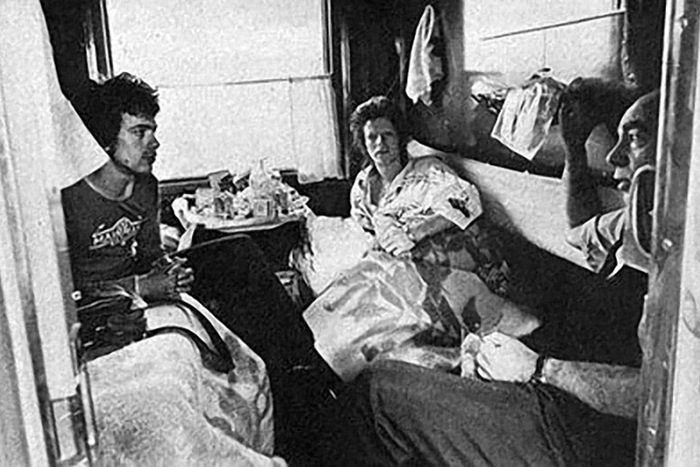Фермеры Дона и Кубани страдают из-за небывалой засухи — и предрекают массовое закрытие хозяйств
Второй год на юге России бушует засуха — в этом сезоне она ещё жёстче, чем в прошлом. «Двойной удар» природы добивает многие фермерские хозяйства: не получив нормального урожая, они рискуют закрыться. Но Минсельхоз всё равно ожидает результаты выше уровня прошлого года.
В голосе Алексея Емельянова слышна безнадёжность.
— Уборку закончил. Все потеряли, — чеканит он. — [Собрал] 14 центнеров с гектара, отдельные поля давали по десять. А рассчитывали получить под 50. Все помёрзло и погорело.
Хозяйство Емельянова находится в Азовском районе Ростовской области. В сельском хозяйстве 76-летний фермер больше полувека. Но с таким ударом, как этот, сталкивается впервые — потери, по его оценкам, составили 30 млн рублей.
— Что делать? Неизвестно что. По-русски говоря, полная жопа. Перспектива? Разорение, — говорит Емельянов.
Его слова могли бы повторить аграрии по всей Ростовской области — и северу Кубани. Урожайность во многих хозяйствах там упала в два, а то и в несколько раз. А кто-то и вовсе не стал убирать пшеницу — дешевле оказалось смешать её с землёй.
Власти ввели режим ЧС уже в 21 районе Дона и в девяти районах Кубани. Как говорят чиновники, это поможет получить компенсации тем, кто застраховал посевы. Но таких среди фермеров мало — страхованию они не верят.
Зато фермеры верят в помощь государства. А именно — в пролонгацию кредитов и прямое возмещение потерь, иначе до следующего урожая многие просто не доживут.
Жара всё не спадает, и вслед за пшеницей под солнцем сгорают ещё более прибыльные кукуруза и подсолнечник.
«Пшеница стояла ниже колена»
Проблемы у аграриев начались ещё в прошлом году — и на них тоже повлияла засуха. Из-за неё осенью 2024 года пришлось сеять зерно в сухую почву. Влаги для развития растений не хватило — и это затормозило их рост.
— В зиму пшеница ушла в фазе шильца, не раскустившись, — помнит Ольга Проскурякова, глава КФХ из Егорлыкского района Ростовской области (имя изменено). — Весной осадков не было, но были заморозки. В отсутствие снежного покрова они тоже внесли свой вклад. Ну и далее — май-июнь без дождей, несколько дней сильных ветров… Итог — полупустой колос.
Этот сценарий — сначала пшеницу губят морозы, а потом добивает жара — синхронно повторяется и на Дону, и на Кубани. Но прошлогоднюю засуху с нынешней не сравнить, уверен Александр Шипулин, глава кубанской АККОР (ассоциация крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов).
— Тогда [в 2024 году] урожай тоже был ниже, чем в предыдущие годы, — говорит Шипулин. — Но на проценты. А сейчас разница — в разы.
Сам Шипулин собрал в этом году 28 ц/га пшеницы, хотя обычно получает больше 60.
В Ейском районе Кубани засуха проявилась не сразу — поначалу фермеры даже не поняли, что происходит, рассказывает глава местной АККОР Сергей Гречищев. В конце мая пшеница стояла зелёная — и вдруг по полям пошли бледные «круги».
— Мы друг у друга спрашиваем: «А что это, болезнь, не болезнь?», — говорит Гречищев. — А когда вырвали [растения] на этих пятаках — корневую систему посмотрели, а она уже сухая. И мы начали бить в колокола. Выехала к нам Северо-Кубанская опытная станция, сделала заборы на продуктивную влагу — а её там просто-напросто нет.
По словам Гречищева, ситуация в его районе сейчас «более чем драматичная»: многие фермеры собрали по пять, восемь или десять центнеров с гектара, потолок — 25 ц/га. Обычная для этих мест урожайность составляла в последние годы не менее 75 ц/га. Некоторые хозяйства, чтобы заработать на урожае хоть какие-то деньги, убирали пшеницу сразу на сенаж — скоту на корм.
— Если опустить в середину поля рулетку, высота стеблей будет сантиметров 25, — описывает Гречищев состояние посевов. — А обычно пшеница до пояса доходит, ну, по крайней мере, выше колена. Чтоб она ниже колена стояла — я такого не помню.
За 30 лет не припомнит подобной засухи и председатель донской фермерской ассоциации Алексей Жданов. В прошлом году он собрал 10 тысяч тонн зерна, в этом — 4,5 тысячи. Мог бы меньше, но спасли «пары» — вспаханные, но незасеянные поля, которые аграрии оставляют на сезон для накопления влаги. Они-то в засуху и «сработали» — по «парам» Жданов получил урожайность 50–60 ц/га.
Но большая часть фермеров от этой технологии отказывается, стараясь по максимуму использовать поля, сокрушается глава донской АККОР.
— Результаты ужасные: у кого в районе нет «паров» — люди остались без урожая. Пшеница сгорела, получили по 6–8 ц/га, в лучшем случае 15 центнеров. Фермеры, предприятия, агрохолдинги перестали соблюдать технологию — сеют в основном пшеницу по пшенице, подсолнечнику, кукурузе. Всё это сгорело, — говорит фермер.
В нескольких районах Ростовской области потери были так велики, что аграрии вообще отказались убирать урожай.
— Некоторые у нас просто задисковали поля (перемешали посевы с землёй специальными ножами-дискаторами ). Посчитали затраты на солярку, людей, технику, посмотрели, какой с этого будет выхлоп… Смысла в уборке не было, — рассказывает фермер из Сальского района Александр Маляров.
«Это год раздолбаев»
По словам Жданова, к низкой урожайности в этом сезоне добавилась ещё одна проблема — низкое качество зерна. Из-за жары зерно получилось иссушенное, деформированное и с низкой «натурой». Это один из ключевых показателей качества пшеницы — он считается в граммах на литр. Чем выше «натура», тем больше муки можно произвести из зерна и тем меньше отрубей от него останется.
Даже если у зерна другие высокие параметры — например, клейковина и белок, — низкая «натура» испортит всю картину, говорит Александр Шипулин.
— Продать такую пшеницу как зерно хорошего качества не получится — скорее как фураж (зерно, используемое на корм скоту). А значит, цена на урожай будет ещё ниже.
Из-за нехватки влаги растениям не помогли даже подкормки — пшеница просто не смогла их «переварить». Те, кто потратил деньги на удобрения, по сути, выбросил их на ветер, говорит донской фермер Виктор Батраков. Сам он «кормил» пшеницу несколько раз и теперь жалеет — урожай получился в районе 22 ц/га против 65 центнеров в прошлом сезоне.
— Это год раздолбаев, которые ни хрена не делали, — то ли шутут, то ли возмущается фермер. — Там, где я сам сделал огрехи, или куда не дошли руки [подкормить] — там урожайность выше. Если влаги нет, мы только вредим, когда прикладываем свои очумелые ручки. Единственный вывод: когда растение в состоянии шока, не трогай его вообще. Оно само найдёт выход из положения.
Даже после уборки пшеницы засуха продолжает вредить фермерам — губит уже культуры, посеянные в этом году, например, подсолнечник и кукурузу. Они обычно прибыльные — и часто выручают фермеров во время неурожая или низкой цены на пшеницу.
Но «семечка» и кукуруза страдают от нехватки влаги ещё сильнее.
— Всё горит. Подсолнечник сегодня по колено, где-то по пояс или до груди [достаёт]. Этого очень мало, — рассказывает кущёвский фермер Виталий Шакун. — Кукуруза в отвратительном состоянии, вся сохнет. На два метра копаешь — нет влаги. Засуха для пропашных культур — это гибель.
По иронии, достойный урожай в Ростовской области в этом году получили фермеры, наоборот, привыкшие к суховеям и слабым результатам. Сразу в нескольких таких районах весной внезапно пролились дожди — и это принесло прибавку. Например, фермер Виталий Горбатенко из Ремонтненского района (граничит с засушливой Калмыкией) собрал до 33 ц/га мягкой пшеницы даже без «паров».
— Настало время, которое нам и предсказывали [учёные] — осадки идут локально, буквально 10 км, и может быть очень серьёзная разница, — делится наблюдениями фермер из Новопокровского района Кубани Виталий Попов (его урожай — 53 ц/га пшеницы против 83 ц в прошлом году). — И они [осадки] часто носят сверхинтенсивный характер. По итогу, где пусто, а где густо.
Аграрии связывают эти изменения с глобальным потеплением.
— Климат реально меняется, и это проявляется, в первую очередь, резкой турбулентностью погоды, — говорит независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. — Это могут быть заморозки, или засухи, или зальёт [чрезмерно дождями]. Общий рост температур тоже вполне очевиден. Соответственно, здесь нужна очень серьёзная работа с технологией. А она начинается с семян. Они должны быть идеально разработаны с учётом климатических изменений. [И тут нужен] хороший объём науки, — заключает эксперт.
«О прибыли речи вообще не идёт»
Фермеры признаются: прошлую засуху они пережили с трудом. А повторный неурожай и вовсе ставит многих на грань банкротства.
— Засуха подорвала нашу экономику на 100%, — говорит Виталий Шакун. Его с братом хозяйство — одно из передовых в Кущёвском районе, в нормальные годы здесь получают до 80 ц/га. Но в этом году братья едва наскребли на своих полях по 20 центнеров.
— Мы не знаем, как нам выживать, как зарплаты платить.
По словам Шакуна, многие фермеры в его районе находятся в схожих условиях.
— Деваться некуда — долги, кредиты. Есть даже [такие] хозяйства — косить надо, а топлива нет. И по соседним районам тоже так.
Чтобы иметь на Кубани положительную рентабельность, нужно получать пшеницы минимум 40–45 ц/га, подсчитал Александр Шипулин. Но даже такой урожай обеспечивает лишь небольшую прибыль — или просто «выход в ноль». Всё, что ниже — это убытки и шанс на разорение.
Тем, кто обрабатывает арендованную землю, приходится ещё туже — долю и без того небольшого урожая сейчас надо отдать пайщикам (владельцам земли, не занимающимся сельским хозяйством). В такой ситуации, например, донской фермер Александр Маляров: почти 80% его земли арендованы. В итоге из каждых двадцати собранных тонн пшеницы он отдаст за землю двенадцать.
— Ещё надо заплатить налоги, готовиться к посевной… На продажу мало что остаётся, — говорит Маляров. Его урожай в этом году — 25 ц/га, вдвое меньше, чем в прошлом. — По пшенице практически в ноль вышли. Если и подсолнух погорит, то будем в минусах. О прибыли речи вообще не идёт.
В «минусах» после уборки остался и Алексей Жданов. «Пары» в его хозяйстве занимают 40%, на других полях результат был хуже. Но фермеру есть чем восполнить потери: кроме зерна Жданов занимается мясом. На его ферме за год выращивают две тысячи голов скота.
— Вот, на плаву останемся за счёт бугая — сдаём его [на мясокомбинат] с декабря, — объясняет Жданов. — У остальных этого нет. Побросали животноводство.
Перспективы у тех, кто пострадал от засухи, туманные, считает глава донской АККОР.
— В этом году на порядок добавится банкротов. Кое-кто не сможет выбраться из долговой ямы.
«Спасти» экономику хозяйств могло бы страхование. Но опрошенные фермеры в один голос уверяют — агрострахование в России не работает, получить выплаты очень сложно. А иногда застраховаться не получается в принципе.
Так получилось, например, у Виталия Шакуна — весной он планировал застраховать пропашные культуры от засухи. В краснодарском филиале запрос фермера одобрили, после чего, по его словам, документы направили в Москву.
А уже оттуда пришёл отказ.
— Москва одобрила только [риски] от града, сильных дождей, от пожара — и то, если он неумышленный, — говорит Шакун. — А нам надо было именно от засухи, но от неё они не стали страховать.
Требования агростраховщиков не учитывают климатические условия, в которых сегодня работают аграрии, уверен ейский фермер Сергей Гречищев. Свои посевы он не смог застраховать именно из-за них.
— По условиям компаний, чтобы они застраховали твой урожай, всходы должны появиться через 14 дней после посева. Агент приехал, посмотрел — всходы есть, тогда он страхует. А как было у нас? Мы получили всходы — кто в середине декабря, кто в январе [то есть спустя два месяца]. Не было влаги. Поэтому ни одна страховая не бралась. Они говорят: «А что мы тут будем страховать? Землю? Ты нам докажи, что там [в почве] что-то есть, тогда мы приедем».
Если эту «нормативку» не поменять, то фермеры не застрахуются и в следующем году, говорит Гречищев. И безвыходная ситуация 2025 года снова повторится.
— Август-месяц [синоптики обещают] — опять засуха. Значит, дождей не будет никаких. И мы задаём себе вопрос — а как же будем сеять, если опять всё сухо?
Иногда аграриев не спасает даже заключённый страховой договор. Алексей Емельянов успел застраховать от засухи пшеницу — по подсолнечнику и кукурузе ему отказали из-за маленькой площади посевов. Но страховые выплаты за пшеницу придут, по его словам, только в декабре — а до этого времени ещё нужно дожить и провести новую посевную.
— Как [будем выкручиваться]? Это их не касается, — вздыхает фермер.
Как сообщали региональные власти, под урожай 2025 года донские аграрии застраховали свыше 920 тыс. га посевов. Это 18% от общей посевной площади в регионе — 4,9 млн га. Компенсация за потери урожая из-за весенних заморозков и засухи составила около 220 млн рублей, рассказал ТАСС врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«На сегодня мы выдохлись»
Засуха тяжело ударила по аграриям ещё по одной причине — она наложилась на проблемы, которые мучают сельское хозяйство России уже несколько лет.
Главные из них — это низкая цена на пшеницу и общее падение рентабельности растениеводства.
— Было бы так — мало убрали, но выгодно продали, это бы выровняло ситуацию, — размышляет Сергей Гречищев.
Но так, скорее всего, не будет.
Виной тому фермеры единодушно считают пошлину на экспорт пшеницы. Власти ввели её в конце 2021 года, чтобы не допустить дефицита зерна на внутреннем рынке.
Если цена на зерно мировых рынках превышает заранее оговоренную сумму, экспортёры платят с неё пошлину. Её размер Минсельхоз РФ рассчитывает (за основу берётся курс доллара и средняя экспортная цена) и публикует каждую неделю.
Потери в цене аграриям обещали возместить в виде «зерновой субсидии», но получают её чаще всего крупные хозяйства, а сам размер субсидии не компенсирует реальные убытки.
Вместо того чтобы сбалансировать цену на зерно, пошлина просто её обрушила, жалуются аграрии.
— Экспортёр, который сегодня заключает контракт на экспорт, не знает, какой размер пошлины будет через два месяца, когда он станет осуществлять отгрузку, — объясняет механизм обесценивания глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. — Соответственно, диапазон колебаний за двухмесячный период в историческом разрезе наблюдался в две тысячи рублей [на тонне]. Экспортёр и закладывает в закупочную цену эти две тысячи. Это образует бешеное давление на цены. Он [экспортёр] не хочет рисковать, потому что иначе в убыток влезет, если пошлина действительно поднимется на две тысячи. Это же завязано на курс [доллара] — кто может сказать, каким он будет через два месяца? А если повезло, и пошлина не выросла, он просто заработал больше денег, бонус в карман получил.
По подсчётам Злочевского, в прошлом году подобным образом экспортёры получили минимум 26 долларов прибыли на каждой тонне закупленного и вывезенного за рубеж зерна.
Объём экспорта пшеницы в 2024 году «Русагротранс» оценил в 57,2 млн тонн.
— Это все деньги из карманов крестьян, — резюмирует глава Зернового союза. — Риски ложатся на них автоматически и разрушают их мотивацию и экономику производства.
— Раньше крестьянин знал, что сейчас цены припали, но завтра могут измениться в лучшую сторону, — объясняет Виталий Попов. — А теперь знает: даже если изменятся, пошлина всё свыше минимума забирает. При растущей себестоимости — какие тут планы и надежды?
Ольга Проскурякова тоже ощутила этот эффект на себе — по оценке главы КФХ, пошлина ежегодно забирала у неё до трети прибыли.
В начале июля Минсельхоз впервые обнулил ставку пошлины — она остаётся нулевой до сих пор. Но Ольга уверена, что фермер от этого не выиграет.
— Это означает лишь то, что экспортные цены настолько низкие, что сравнялись с «ценой отсечения» для введения пошлины, — говорит она.
К 2021 году фермеры накопили финансовую «подушку безопасности» — было несколько прибыльных сезонов. Но с началом действия пошлины эта «подушка» постепенно растаяла, признаются аграрии.
— Какие-то запасы были, да, — вспоминает Виталий Шакун. — На них мы до настоящего времени и прожили. Тянули, все затраты поуменьшали, насколько могли, пояски затянули, но уже всё — выдохлись мы сегодня.
На фоне низких цен на пшеницу дорожает всё, что необходимо для её выращивания — топливо, техника, семена, удобрения. «Диспаритет цен» преследует российский АПК уже десятилетиями, но на фоне нынешней засухи он ощущается особенно остро, жалуются аграрии.
— Кило пшеницы сейчас стоит около 13–14 рублей, — говорит Сергей Гречищев. — Это уровень 2017 года. Но в том году при такой цене я покупал комбайн «АКРОС» за 6,5 млн рублей. В этом году хотел взять ещё один, ровно такой же. Дилер прислал цену — 20 миллионов. Только комплектующие там уже не те, что раньше. [Немецкой] гидравлики «Bosch» уже нет, всего, что способствовало тогдашнему уровню комбайна, тоже. Везде заменители — то китайские, то ещё чьи-то. И при этом за семь лет комбайн подорожал в 3 раза, а пшеница — в ноль раз.
«Залетают воришки, вывозят зерно за копейки»
Звучит удивительно, но даже по низкой цене фермеры не всегда могут быстро продать своё зерно. Мешают новые технологии, а точнее «цифровизация»: несколько лет назад в российском агрокомплексе появились так называемые ФГИСы — «федеральные государственные информационные системы».
Это электронные картотеки, в которых обязаны регистрироваться — и регулярно вносить данные — все, кто занимается сельским хозяйством.
«Зерно» — отслеживает перемещение каждой партии зерновых — от фермера до экспортёра или переработчика.
«Семеноводство» — отражает сведения о хранении, перевозке и посеве любых семян в хозяйстве.
«Сатурн» — в ней фиксируется каждое движение пестицидов и агрохимикатов — вплоть до их использования или утилизации.
ЕФИС ЗСН — в эту систему вносят сведения обо всех полях, которые обрабатываются в хозяйстве, их местоположении и состоянии.
По замыслу чиновников, внедрение электронных систем должно было сделать сельхозпроизводство «прозрачнее».
Но на деле, по отзывам аграриев, новые требования только усложняют им жизнь и приводят к лишним затратам.
— ФГИСы меня доконали больше, чем неурожай, — горько шутит Ольга Проскурякова. — [Обычно] я веду учёт сама, но впервые отдала на аутсорс заполнение заявок по земельным участкам в ЕФИС ЗСН. Появилось множество посредников, готовых выполнять эту функцию за 60–80 руб/га. Постоянные обновления бесят ужасно, у меня нет ни малейшего желания обучаться тому, что часто меняется, и нужно мне, условно, раз в год.
С системой «Зерно» фермерам приходится иметь дело чаще — всякий раз при продаже урожая. И её сложности приносят фермеру куда больше боли.
Особенно это ощутимо, если срочно нужны деньги — на покупку топлива для уборки или семян для посевной.
— Зерно, что ты накосил, продать сразу не можешь, — говорит Виталий Шакун. — Потому что надо сделать документацию. А она готовится две-три недели. Декларации, мониторинги… А косить-то надо.
Но трудности заключаются не только в том, чтобы получить карантинные бумаги. Все данные о партии пшеницы (общая масса, поле, на котором она выращена, цель продажи, покупатель и т.д.) нужно ещё внести в электронную систему.
И вот с ней у фермеров часто возникают непреодолимые трудности.
— В деревнях-то связи нет! — недоумевает Сергей Гречищев. — А ты должен партию формировать, декларацию заполнять — всё в электронном виде. Но никто не спрашивает — а интернет у вас есть вообще? А там не то что интернета — там дороги нету, магазина нету, ФАПов, там почты закрыты! Прежде чем вводить какие-то законы — вы же нас спросите: «А вы сможете их выполнить или нет?». Никто ж не спрашивает. В Москве сидят там, у них и интернет, и развлечения, и концерты — всё, что хочешь. От деревни они далеки.
По словам Алексея Жданова, чтобы не возиться с «цифровизацией», некоторые фермеры продают зерно втёмную — перекупщикам, вообще без документов.
— Сидят люди без денег, и начинается беспредел, — рассказывает Жданов. — Как раньше, пшеницу отдают за наличку, и не по 14–15 рублей за кг, а за десять, одиннадцать. Залетают воришки, покупают, грузят, вывозят за копейки. А фермеру и деваться некуда — надо запчасти или солярку купить, чтобы уборка не остановилась. Приходится за бесценок отдавать.
«Ждать хорошего урожая было слишком оптимистично»
На сегодня режим ЧС по засухе введён в Ростовской области в 21 районе, то есть почти в половине региона. По оценке властей, из-за аномальной погоды в области повреждено около миллиона гектаров посевов. На 180 тысячах га они безвозвратно погибли.
— Природа в этом году нас не жалела: то заморозки, то засуха, теперь ещё и пожары. По предварительным оценкам, ущерб уже сейчас примерно на 7,8 миллиарда рублей. Такого трудного года очень давно не было, — признался ТАСС врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его словам, из-за развивающейся засухи региональные власти трижды снижали прогноз сбора зерна — сначала 11,4 млн тонн, потом 9, а теперь — 8 млн тонн. Эта цифра охватывает все виды зерновых — пшеница там займёт лишь часть.
В прошлом году на Дону собрали 11,5 млн тонн зерна (из них 10 млн — пшеницы) — при том, что в этом сезоне аграрии потеряли из-за жары до трети урожая.
На Кубани режим ЧС введён в девяти районах — посевная площадь в них превышает миллион гектар. По оценке властей, ущерб от гибели сельхозкультур там составил полтора миллиарда рублей.
— Ситуация непростая. Засуха внесла серьёзные коррективы в формирование будущего урожая. Примерно 45 процентов озимых в хорошем состоянии, 40 — в удовлетворительном, почти 15 процентов — в плохом. Наиболее сложная ситуация с засухой в северной зоне, где сосредоточена почти половина всего озимого клина Кубани, — рассказывал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Несмотря на недобор в ключевых «зерновых» регионах страны, Минсельхоз РФ продолжает публиковать позитивные прогнозы на урожай. В конце июля глава министерства Оксана Лут в очередной раз подтвердила ожидания на уровне 135 млн тонн зерна в целом, из них пшеницы — 88–90 млн тонн.
— Учитывая, что посевная в целом прошла без каких-то сильных сбоев, есть, конечно, сложности в погоде — в определённых регионах у нас засуха сильная, в определённых регионах нас заливает, мы не можем войти на уборку, но тем не менее пока мы сохраняем наш прогноз, — заявила Оксана Лут.
Её оценка превышает результаты 2024 года — тогда реальный сбор зерна в стране составил 125,9 млн тонн, из них пшеницы — 82,6 млн тонн.
Прогнозы независимых экспертов рынка куда сдержаннее.
В середине июля аналитическое агентство «СовЭкон» отмечало, что нынешние темпы уборки «значительно уступают прошлогодним». Тем не менее агентство повысило свой прогноз итогового урожая пшеницы с 83 до 83,6 млн тонн.
Но даже в таком виде он сильно не дотягивает до ожиданий Минсельхоза.
— Судя по всему, некоторые/многие прилично переоценили урожай на юге. Но не мы. После такой осени и местами совсем не блестящей весны ожидать там средний, а тем более хороший урожай было очень оптимистично, — заявил глава «СовЭкона» Андрей Сизов.
«Нужны кардинальные решения»
В фермерском сообществе юга оптимизмом даже не пахнет.
— Картина невесёлая. Паники нет, но есть некая обречённость в понимании перспектив. Всё ведётся к тому, что малого бизнеса в сельском хозяйстве не останется. Ещё один неурожайный год мало кто выдержит, — так описывает настроения аграриев Ольга Проскурякова.
Её слова подтверждают и цифры — только за прошлый год в Ростовской области закрылось около 400 фермерских хозяйств. А всего за полтора десятилетия их число в регионе упало вдвое — и теперь насчитывает всего семь с лишним тысяч.
На Кубани схожая история, говорит Александр Шипулин. Он приводит в пример Новопокровский район — самый крупный в крае по пашням и количеству фермерских хозяйств.
Ещё 10 лет назад там насчитывалось 1,3 тысячи КФХ, сегодня — уже 835.
— И сокращение идёт именно за счёт «малоземельщиков» — тех, кто работает и живёт на своей земле, на хуторах, — говорит Александр Шипулин.
Засуха сделает многих фермеров ещё «малоземельнее»: чтобы восполнить потери от неурожая, они начинают продавать самое ценное.
— Слава богу, я жену не слушал и [на лишние деньги] покупал землю, — говорит фермер Виктор Батраков. — Теперь, думаю, гектар пятьдесят всё-таки продам. Может, кто найдётся, кто не соображает, куда вкладывает… И купит у меня по нормальной цене. Сам я не протяну.
По словам кущёвского фермера Виталия Шакуна, один его знакомый также ищет покупателей на свою землю. И эта тенденция будет набирать обороты, считает он.
Сам Шакун пока избавляется от других активов.
— Мы технику распродаём. До десятка единиц выставили на продажу — трактора, дискаторы. Выбрали то, без чего мы сможем прожить. Но пока ничего не продаётся.
Глава кубанской АККОР уверен — без господдержки фермеры не справятся. Особенно трудно будет тем, кто живёт от кредита до кредита: «Взял, посеял-убрал, отдал — и по новой». Таким аграриям он предлагает продлить сроки выплат, чтобы дожить до нового урожая.
А в крайнем случае — и вовсе «простить» проблемные кредиты.
— Раньше в колхозах, когда аналогичные ситуации возникали, государство просто списывало долги, и жизнь шла дальше своим чередом, — говорит Шипулин. — Наступило такое время — нужны кардинальные решения.
Также кубанская АККОР просит краевые власти напрямую помочь фермерам деньгами — за каждый «сгоревший» гектар. Это позволит им рассчитаться по зарплатам, купить семена и удобрения для нового сева, надеется Шипулин. Если этого не делать, то перестанет существовать «какая-то большая часть фермерских хозяйств», опасается он.
— А фермер — это опорная точка хутора. Не будет фермера — перестанет существовать хутор. Мы и так терпим, можно сказать, бедствие. Молодёжи в селе всё меньше и меньше — те, кто остаётся, спиваются, уходят из жизни в довольно молодом возрасте. Откуда тут возьмётся демография? — задаётся вопросом Шипулин.