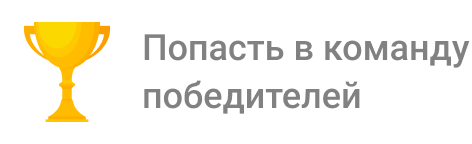Лили
-Знаешь, а ведь я боюсь воды, - Лили, как всегда, нелогична и непоследовательна. Что-то в ней творится такое, неземное. Она уходит в свои мысли, подолгу сидит, обнимая колени, не реагирует ни на кого, а потом вдруг выдает что-то в таком вот духе.
-Боишься? – я привыкла. Я знаю, что Лили – особенная. Так всегда говорит мама. Да и сама я это вижу, чувствую. Немножко завидую ее тонкому и гибкому стану, длинным и густым светлым волосам, большим темно-зеленым глазам…всему! Внешностью Лили пошла в мамину породу – та такая же, гибкая, тонкая. Только вот Лили даже ее переплюнула, оказавшись еще тоньше и грациозней, легче, резвей.
Она всегда…такая. Почти что сказочная. Обряди ее в платье принцессы, а, впрочем, можно и не обряжать даже: и без того – вылитая героиня сказки, где всегда зло побеждено добром, прекрасная дама спасена и все уезжают в закат. Но жизнь – это не сказка. И я всерьез опасаюсь за Лили, за всю ее тонкость и хрупкость, за неумение кричать и драться. Она всегда избегала конфликтов, предпочитала уступать, виновато улыбаясь.
Моя несчастная и слабая сестра!
А я же пошла в папину породу. Волосы у меня темные, непокорные, роста я невысокого, сложена плотнее и не так звонка и хрупка. Я старше Лили на три года, а это значит, что и без того, как старшая, я обязана была ее защищать, учитывая же абсолютное неумение Лили постоять за себя – защищать в два, в три раза больше.
Я дралась, никогда не показывала, что мне больно, защищала сестру от нападок, злясь на нее: почему она сама не может разобраться хоть в чем-нибудь? Почему наши родители твердят мне только о том, что Лили – особенная, что она слабее, младше, а я должна заботиться о ней? Обо мне бы кто так заботился…
Благо, хватило мне ума все-таки не держать зла на сестру, хотя, каюсь, ей от меня тоже знатно доставалось, особенно, когда мне было пятнадцать-семнадцать лет, и разница в три года была катастрофически ощутимой. Мне казалось, что на мои плечи легла тяжелая плита имени моей сестры, а я теперь хожу, пригибаясь к самой земле, чтобы это эфемерное и инфантильное создание не пропало в учебных коридорах, в насмешках (хоть и редких – я, все-таки, отучила), в конфликтах, которые так и норовили собраться над головой моей младшей сестры.
Серьезно, ни у меня, ни у моих друзей никогда не было столько конфликтов, сколько у Лили. И это при условии, что сама она никого не задевала, и вообще, даже редко замечала. У нее не было друзей, так откуда взяться было врагам? Ан нет, находились и находились с потрясающей быстротой.
-Она просто – вечная жертва! – страшным шепотом сообщила мне Лиззи, когда я поделилась недавним происшествием: кто-то вытащил из шкафчика Лили мобильник.
Лиззи была не только моей близкой подругой. Она еще была нашей соседкой и прекрасно знала Лили, видела, как та часто спотыкается еще маленькой, о камни, раздирает коленки, пачкает платья и регулярно бывает облита из шланга какой-нибудь хулиганской швалью. Лиззи всегда говорила то, что думает на самом деле и эта ее черта мне нравилась. Как и то, что она пишет все конспекты, что мне часто играло на руку – мы учились вместе не только в школе, но и в колледж попали один, сойдясь в выборе без сговора.
-Я тоже начинаю так думать, - честно сказала я тогда. Кажется, сказала я так впервые. Но с тех пор только укоренилась в своем мнении.
Лили была воплощением идеальной жертвы. Она тихо плакала, блуждала в своих мыслях и оказывалась до ужаса рассеянной как на учебе, так и дома.
Кто регулярно обжигался кипятком? Кто часто путался в учебных предметах и приносил не тот учебник на занятие? Кто не мог взять нож в руки и отрезать себе кусок сыра, не порезавшись при этом? кто попадался на издевки и шутки, принимая заранее все за чистую монету?
Лили. Всегда – Лили.
-Почему ты боишься воды? – спросила я, когда поняла, что ответа на мое «боишься?» не последует.
-Она снится мне, - Лили поежилась. – Я во сне. Встаю и иду. И вода блестит, как блестит зеркало. И обязательно луна над водой. И дорога, что серебро… понимаешь?
-Вообще ни разу, - я развернулась к туалетному столику и принялась наблюдать за сестрой в зеркало, параллельно пытаясь поправить маникюр. – Ты же с удовольствием плаваешь каждое лето!
Лили – великолепная пловчиха. Если меня учили плавать с трудом, с учителями и бассейном, обложив спасательными кругами, то Лили, кажется, научилась самостоятельно и рано. Она плескалась в воде с удовольствием, ее даже предлагали развиваться в этом направлении, участвовать в соревнованиях, но она отказалась.
Мама спросила тогда, в чем причина ее отказа? Но Лили так и не ответила. Она очень часто не отвечала.
-Так плаваю я днем! – словно бы объясняя очевидное, ответила Лили.
Я поморщилась и зашипела: пилочка неожиданно соскользнула и острым краем как-то неудачно пропорола кожу. Выступили темные капли крови.
Не очень и больно, но обидно.
***
Кровь. Да.
Помню, к моей сестре пытался приставать один мерзавец. И нет, то, что он мерзавец – это не мое мнение, а общее. Он был наглым, не знал отказа ни в чем и никогда, а что хуже всего – красив.
Лили, не умеющая противостоять ничему, сдалась ему сразу. Сколько ей тогда было? Пятнадцать? Шестнадцать? Не знаю точно, знаю только, что я ее предупредила, просила не связываться с ним, а она смотрела на меня своими темно-зелеными глазами, смотрела наивно и отвечала с возмущением:
-Он исправится! Он сказал, что я – его вдохновение, его муза, его любовь, что он изменится ради меня.
У меня очень чесались руки отвесить и Лили пощечину. Я предупредила ее раз, заговорила во второй, Лиззи, учуяв беду, угадала ее источник без труда и тоже предприняла свою попытку поговорить и достучаться до Лили, но если Лили не послушала меня – свою сестру, ту, что защищала ее всегда – то к словам Лиззи она и вовсе отнеслась наплевательски.
-Непроходимая дура! – в сердцах отозвалась Лиззи после и, взглянув на меня, усовестилась, - прости, пожалуйста, прости. Я не хотела тебя обидеть, но твоя сестра - это такое дикое воплощение наивности…
-Мне нечего прощать, - возразила я. – Сама думаю о том же, но что делать? Она – как блаженное дитя, спит с открытыми глазами и не знает, что вокруг жизнь, ничего не знает.
-Ну, - Лиззи поставила передо мной чашку кофе, - у меня к тебе два варианта: поговорить с родителями и рассказать им про ее увлечение…
-А второй? – первый вариант мне решительно не нравился. Родители всегда говорили, что Лили – необыкновенная, что она слабая, что за ней надо смотреть. Пожаловаться на какую-то ситуацию значит отвесить пинок самой себе: я уже ясно представляла разочарованный вздох отца и мамин вопрос о том, где была я, когда Лили не смогла противостоять в очередной раз.
-Второй вариант – оставить всё как есть, - Лиззи хмыкнула.
-Что? – мне показалось, что я ослышалась. – То есть как это? Она же может…
-Может, не может, - Лиззи закатила глаза, - послушай, сколько ты будешь бегать за нею, оберегая от каждого провала и ямки? Пусть упадет в лужу, пусть пострадает, в конце концов, ты ей не нянька! Должна же у нее быть своя голова на плечах! Пусть учится думать, пусть учится…то есть, я понимаю…
-Ничего ты не понимаешь! – тут вспылила уже я.- Она – моя сестра. Она слабая. Она нуждается в защите. И, знаешь, мне пора. Спасибо за кофе.
Лили прибежала ко мне в слезах через два дня от этого разговора. Кажется, тогда, увидев ее обиженной, слабой и униженной, я не выдержала и сломала ее неудавшемуся и развязному кавалеру нос.
Нет, вру. Нос я сломала Роду – музыканту без особенных талантов к музыке, но с потрясающим самомнением, на следующий год. Или то был Гаспар?..
Сложно припомнить. Я отбивала сестру столько раз и от стольких, что уже путаю, кому я что сломала, кого подстерегли мои друзья, а кто отделался устным серьезным предупреждением. Впрочем, кажется, стая мерзавцев вокруг Лили не редела, несмотря на все мои усилия.
***
-Тебе больно? – Лили бросилась ко мне, услышав мое шипение, но при этом запнулась о пуфик и сама чуть-чуть не упала на пол, чудом удержавшись на ногах.
Глядя на то, как она умудрилась все-таки получить синяк, мгновенно проступивший на ее почти прозрачной коже темным некрасивым пятном, я почему-то вспомнила слова Лиззи:
-Она просто – вечная жертва!
-Нет, Лили, мне не больно, - запоздало ответила я, прогоняя противные скользкие мысли о том, что из-за Лили я не могу даже вдоволь понаблюдать за своими мелкими ранами, ведь сестра, обладающая потрясающим милосердием и любовью к ближнему, непременно перетянет в порыве своего сострадания и это одеяло на себя. Кто вспомнит о порезе пилочкой старшей дочери, когда младшая тонко-тонко всхлипывает, разглядывая синяк, образовавшийся на пустом месте, пришедший из ничего?
Мама вот никогда не переживала за меня. Зато на первый вскрик Лили, увидевшей паука, гусеницу, синяк, порез – неслась, как сумасшедшая, умудряясь ввалить и мне: почему я недоглядела?
Отец был лояльнее ко мне, но всегда, жалея меня, напоминал, что Лили может пострадать сильнее…
***
Лили бледнее прежнего. Лили ничего не ест. Мать тревожится. Мать ласково заглядывает ей в глаза и готовит говядину в прованских травах, печет гранатовый пирог, надеясь, что это пробудит в ней аппетит.
Лили ест кусочек. Лили благодарит, отодвигает тарелку, встает и уходит к себе. Мать бросает на меня злой взгляд:
-Почему она такая?
-Да кто ее знает? – устало отзываюсь я. На учебе завал, на работе – аврал, держусь силой Лиззи, которая прилежно пишет два конспекта, давая мне возможность поспать.
-Как это?- от возмущения у матери нет слов. – Ты же старше! Ты должна…
-Мама, я есть хочу, отстань, - прошу я. – Не знаю я, что с Лили, ну не знаю! Лучше бы спросила, что со мной!
-В самом деле, Эрмина…- неловко кашляет отец, - дай…
-Да кто же не дает-то? – вспыхивает мать. – Ешьте, ешьте! Ешь, доченька! Ешь, пока твоя сестра там сидит, в темноте, голодает!
Почему в темноте я так и не поняла. Судя по взгляду отца – он тоже.
-Ей не пять лет. ей двадцать. Она может о себе позаботиться! – напоминаю я, поражаясь вдруг в один миг, что так долго терпела и ждала и только сейчас, не в силах больше выносить этой плиты имени родной сестры, прорываюсь.
-Она младше, слабее, она такая робкая…- мать всхлипывает.
А меня вдруг начинает мутить. Я понимаю, понимаю не мозгом, а сердцем, что о себе я мало что знаю. Кто я? Кто я такая? Чем я живу в перерывах между, учебой, работой и Лили?
Гнев… я не была особенно гневлива. Может быть, въедлива, да. Но гнев приходил ко мне редко.
Стало трудно дышать. Я встала, отшвырнув тарелку так, что та, проехав через всю столешницу, упала с обратной стороны и весело разбилась.
-Да к черту! – прошипела я. – К черту вашу ненаглядную Лили!
Пять минут шока матери и вот она стучится в мою комнату, пока я судорожно ношусь по ней, наугад запихивая в сумку вещи.
-Открой! Открой немедленно!
открываю. Резко. Рывком. Мать едва не вваливается внутрь, но успевает схватиться за дверной косяк.
Она хочет заорать на меня, набирает полную грудь воздуха, но осекается:
-Ты куда?
-Прочь, - я легко отталкиваю ее неловкую попытку остановить меня и ухожу. Отец бросается следом:
-Куда ты пойдешь? А как же мы? А Лили?
-А плевала я на вашу Лили, - тихо шепчу я. А может быть – кричу.
Переезжаю к Лиззи, конечно. Выхожу утром через заднюю дверь, чтобы не попасться на глаза матери или отцу. Если бы они приложили хоть немного фантазии и действительно хотел бы меня найти – нашли бы.
Но проходит день, другой, третий – а на пороге дома Лиззи так никто и не появляется.
-Знаешь что, - Лиззи смотрит на меня, убитую горем, очутившуюся вдруг в пепле, проклинающую не то себя, не то родителей, не то Лили и весь мир, - вообще-то, Лили – их дочь. Это прежде всего. Это их долг возится с нею, а не твой.
-Они любят ее.
-Они любят вас обеих, просто она…- Лиззи осекается, - пропадет она. Утонет.
-Утонет? – неловко и страшно вспоминаются слова сестры о том, что она боится воды, я сажусь, с ужасом глядя на Лиззи.
-В людском море, - пытается улыбнуться та, по лицу моему замечая, что сказала что-то не то.
***
Забывается все. Переезжаю я легко и быстро, с легкостью – неожиданной легкостью находя квартиру в неплохом спальном районе, получаю повышение на службе и легко сдаю последние экзамены. Даже дышится легче.
Когда нет на спине груза имени родной сестры и ее проблем поверх моих.
Неужели все так просто?
Мать не выходит на связь. Обижается. Отец пишет смс три раза в месяц, сообщая, что все по-прежнему и не говоря ни слова о Лили.
Через полгода после ухода из дома, я начинаю чувствовать, что мне что-то недоговаривают и спрашиваю напрямик.
«А как Лили? Что с ней?»
«У нее небольшой стресс. Она в кошмарах. Похудела»
Небольшой стресс. Папа всегда меня жалел. Я представила этот «небольшой стресс» и не так важна даже причина, зато ясно – Лили не может справиться с очередным конфликтом в своей жизни и страдает.
«Мне приехать?»
Приезжать я не хочу. Выруливать чужие проблемы тоже, но и чувство того, что в трудный момент я предала семью, не покидает меня.
Ответа я не дожидаюсь ни в этот день. Ни через день.
Еду.
***
Белый гроб укрыт нежной резьбой. Я стою, не в силах поверить, что это происходит наяву. Отец совсем седой. Неужели так…за полгода? Мать рыдает, впадает в истерику и ненавидит меня, не скрывая.
Лиззи стоит кротко, придерживает меня за плечи, а я тупо стою, глядя на гроб своей сестры, не веря, что он вот-вот опустится в землю.
А больше никого и нет.
Заканчивается тяжелая церемония. Мать теряет сознание, отец подле нее. Лиззи отводит меня в сторону, закуривает, предлагает сигарету и мне.
Не реагирую.
-Как это случилось? – я уже слышала. Но я не могу поверить, что так бывает. Ей было всего двадцать. Как так случилось, что она мертва? Почему этот белый гроб? Почему на нем такая резьба? Это ведь шутка?
-Ну, - Лиззи выпускает колечко дыма, - сама я мало что знаю. Она редко выходила из дома. Мать приглашала к ней врачей. Потом…не знаю, но решетки поставили на окна.
Она осекается, нервно смотрит на меня.
-Дальше, - ледяным тоном отзываюсь я. Лиззи покоряется:
-Ловили ее у воды дважды. В ночи. Полиция, рыбаки. Говорила, что море ее зовет. Что оно светит серебряной дорогой.
-И?
-Отводили домой. Она как зомби. Ее должны были три дня назад отвезти в лечебницу, но ночью она как-то вырвалась, бросилась к воде. Утром полиция уже приехала на ее труп.
-И ты это знала? – я не знаю, что чувствовать. Мир годами строился вокруг Лили, а теперь ее нет.
-Знала, - Лиззи не отрицает. – Знала, что она больна и откровенно спятила. Море ее позвало…ха, да она больная. Идеальная жертва. Спятила…
-Мне почему не написала? – вопрос на миллион долларов, не меньше. Я надеюсь, что Лиззи смутится.
-Потому что она – идеальная жертва, - Лиззи спокойна, - я надеялась, что она…как-нибудь избавит всех от своего существования. Тебе еще жить, а от нее одни…
Она не договаривает. Не успевает.
Я со всего размаха ударяю ее по лицу. Рука у меня тяжелая. Я это уже знаю.
Не дожидаясь ни окрика, ни вопля, ни слез со стороны Лиззи, отца или матери, я сажусь в машину и уезжаю прочь. Навсегда.
Мой мир строился вокруг Лили годами, но теперь мне придется строить его заново. В нем не будет моря. Никогда не будет.
Лили не могла утонуть просто так. Она – великолепная пловчиха. Это был путь в никуда. Пропасть…
Или дорога, которая к ней так часто приходила во сне. Может быть, у нее был дар предвидения? Или я совсем обезумела, пытаясь оправдаться?
Куда кричать, что чувствовать, что искать? Ветер? Небо? Луну? Дорогу?
Что произошло на том берегу, где прожила последние секунды Лили? Может быть, какие-нибудь русалки приняли ее за свою сестру? Недаром ведь она так блуждала и грезила на земле? Может быть, не для нее она была рождена?
Кто же ответит.