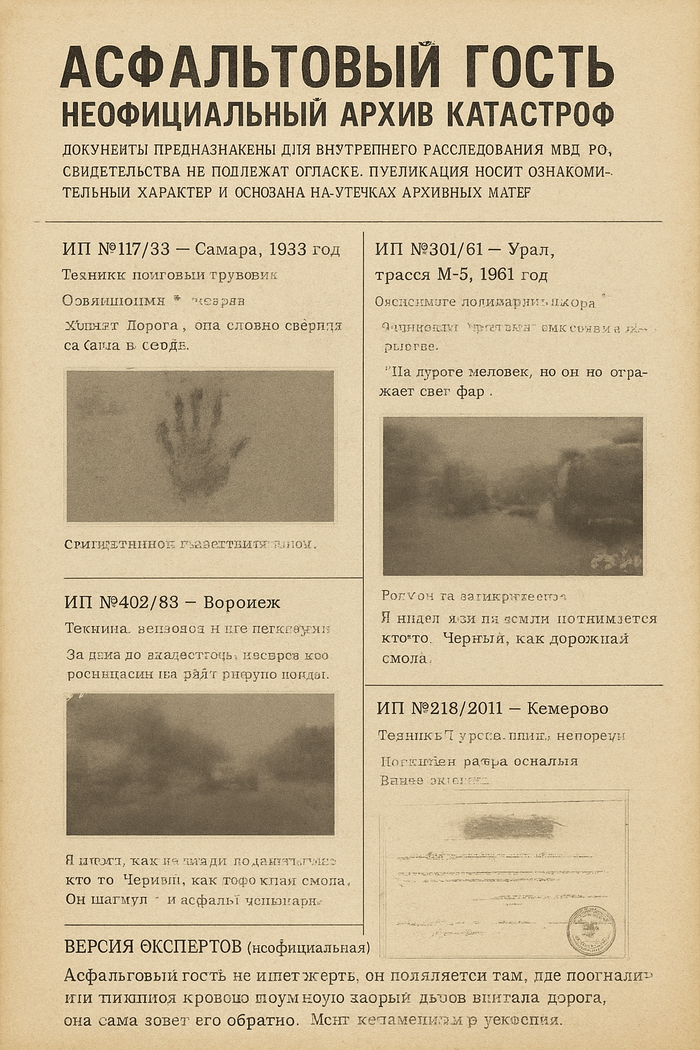Когда мы спускались к воротам, меня не отпускало странное ощущение. Фермы, здания, даже деревья — все выглядело точно так же, как в моем прошлом комплексе. Это было похоже на то, как если бы кожа только что зажила, но тонкий, острый нож снова разрезал швы, позволяя плоти разойтись в обе стороны, открывая свежую рану. Вооруженный человек не пошел за нами внутрь, а вернулся обратно на холм, как только ворота закрылись за нами. Может, он сказал «до свидания». Я этого не услышала.
Щелчок замка вызвал жгучий прилив жара по всему телу. Мои ноги стали онемевшими и слабыми, а мой сопровождающй бросил на меня обеспокоенный взгляд. Его брови сдвинулись, а челюсть сжалась.
— Эллисон? Все в порядке?
Я не могла говорить. Язык прилип к небу, подрагивая от страха, будто пытался пробиться сквозь зазор между передними зубами. В этот миг я вернулась туда, откуда сбежала: нелюбимое дитя, выросшее среди пустых людей, с ужасом, что ожидает меня в будущем. Снова и снова, все мои усилия опять втаптывались в землю, только чтобы быть выкопанными и оживленными вновь, в ожидании неизбежной новой смерти. Мужчина присел рядом, его лицо было всего в нескольких сантиметрах от моего.
— Давай, я покажу тебе окрестности. Здесь точно так же, как ты выросла, только лучше, — Его мягкие глаза сверкнули облачной паутиной тайн.
Он взял меня за руку и потянул вперед. Знакомый, примитивный инстинкт выживания возник из самой глубины моего позвоночника, посылая ток электричества вверх по спине и в самую суть моего разума. Не время останавливаться. Двигайся.
Скованность постепенно отступила, и мужчина повел меня по утоптанной тропинке к фермам.
Здесь люди выращивали картошку, морковь и другие корнеплоды на неровных квадратных участках, точно так же, как и мы. Несколько женщин поливали растения, используя поцарапанные зеленые пластиковые лейки. Они бросали на меня недовольные взгляды, их лица были изможденными и уставшими от солнца и тяжелого труда. Мама раньше работала на фермах. Она иногда тайком приносила домой смешные сладкие морковки и позволяла мне наслаждаться ими в одиночку — что было преступлением в группе, ведь все должно быть поделено с другими. Но она делала это. Только для меня. Воспоминания о маме начали всплывать одно за другим, слабые отголоски человечности пытались пробиться сквозь темную пелену. Затем вкус ее мозга возник во рту, и мне пришлось изгнать все воспоминания о маме, прикусив язык.
— Не переживай, тебе не придется заниматься фермерством, — сказал мужчина с кривой усмешкой, которая почти напоминала улыбку. — Это для других женщин. Твои родители занимались фермерством дома?
За фермами располагалась большая территория, полная шатких деревянных домов с металлическими крышами, наклоненными для лучшего стока воды. Я слышала голоса, доносящиеся изнутри — стены были настолько тонкими, что звукоизоляция практически отсутствовала; точно так же, как и дома. Холод и сырость, жара и крики ссор проникали сквозь них, и я снова почувствовала этот характерный холодный ветер, пробирающийся сквозь деревянные щели в те глубокие зимние дни, его хриплый свист никогда не смягчался, медленно проникая сквозь одеяла и промораживая кости. Я задрожала на солнце.
Дети бегали между домами, играя друг с другом и смеясь от радости. Они выглядели примерно на мой возраст. Родители вышли за ними, увидев, как мы с мужчиной приближаемся, их голоса стали напряженными и настойчивыми. Они боялись мужчины или меня? Приводить людей снаружи было неслыханно, по крайней мере, для нас. Для них я, должно быть, была чужаком. Они не знали меня. Им не было дела до того, что я выросла в месте, точно таком же, как это. Им было все равно. Истинная Любовь была зарезервирована для этой группы, и точка.
Мы пробирались между домами, мужчина рассказывал, как они были построены и насколько они крепче здесь, чем были «дома». Я не верила ему, но его ложь не казалась ему такой очевидной. Или, может быть, ему просто было все равно. Так взрослые разговаривают с детьми, не задумываясь о том, что эти дети могут на самом деле обладать достаточными умственными способностями, чтобы понять или оспорить то, что они слышат. Эти взрослые забыли, каково это — быть молодым, и что знание не является всеобъемлющим даром, которое возникает в день совершеннолетия. Оно всегда растет, тянется дальше и шире, как сеть. И моя сеть была достаточно большой, чтобы понять, что все, что говорил мужчина — полный бред.
Скоро дома уступили место большой поляне в центре комплекса, которая была просто землей и пучками травы, оставленной пустой не без причины.
— Мы на ритуальной поляне, — сказал мужчина, любуясь пустым полем. — Слушай, я знаю, что это может показаться ужасным, но могу тебя заверить, что если бы все пошло правильно, ничего бы не произошло так, как случилось. Не переживай, я — мы — не виним тебя, Эллисон. На самом деле, ты можешь стать ключом к тому, чтобы все работало как надо. Ты особенная.
— Я не хочу, чтобы они умерли, — сказала я ему.
— И они не умрут, — Мужчина повернулся ко мне. — Эллисон, то, что произошло у тебя дома, не должно было так закончиться. Никто не должен был умереть. Все пошло не так, и это вина твоего отца. Ритуал делается ради общего блага. Ты должна мне доверять, хорошо?
— Хорошо, — я не хотела сдаваться, но знала, что должна его успокоить, или, по крайней мере, сделать вид, что верю ему. Иногда полезно, когда тебя недооценивают.
— Давай, я познакомлю тебя с одним из старейшин группы. Я знаю, у тебя, умной девочки, должен быть тысяча и один вопрос. Он даст тебе все ответы, которые нужны.
Солнце уже садилось, окутывая комплекс легким оранжевым светом. Мы пересекли поляну и поднялись на каменистый холм, пока не оказались у комплекса зданий, построенных из качественных, прочных материалов, в отличие от жилых помещений. Настоящая крепость, если можно так сказать. Мы подошли к самому большому зданию, двухэтажному, и мужчина нажал кнопки на небольшой панели рядом с массивной стальной дверью, издающей звуковые сигналы с каждым движением. Я насчитала четыре сигнала, хотя и не могла увидеть комбинацию.
Внутри нас встретил старик в блестящем черном саване, почти касающемся пола. Он красиво колыхался с каждым шагом, плотно облегая его грудь, в то время как воздух раздувал одеяние со спины, заставляя старика казаться гораздо выше и как-то более внушительно, чем позволяла его хрупкая фигура.
— Добро пожаловать, добро пожаловать! — воскликнул старик, широко улыбаясь и показывая свои необычайно белые зубы. — Джексон, — сказал он с непринужденным кивком в сторону моего спутника, его улыбка на мгновение исчезла.
Затем он обратил взгляд на меня, вернувшись к своей блестящей улыбке.
— А ты, должно быть, Эллисон. Это великое удовольствие и честь встретить тебя, дорогая, — он протянул руку, и я неохотно пожала ее. Его рука была мягкой, как будто никогда не выдергивала морковь из земли и не двигала ни грамма грязи с помощью старой лопаты.
— Все в порядке? — спросил невооруженный мужчина — Джексон — старейшину.
— У нас все прекрасно. Спасибо еще раз.
Джексон повернулся ко мне, его лицо было жестким и лишенным эмоций.
— Все будет хорошо, Эллисон. Они позаботятся о тебе, — он не ждал ответа, который я, вероятно, и не дала бы, и вышел через дверь быстрым шагом — как будто он был там, где ему не следовало быть, оставив меня наедине со стариком.
— Ты, должно быть, никогда не была внутри дома старейшины. Давай я покажу тебе что тут внутри, — сказал старик.
Мы шли по коридорам и останавливались у пустых комнат, заглядывая внутрь, пока старик объяснял их различные назначения. Концепция наличия нескольких комнат для конкретных целей была совершенно чужда мне. Дом, в котором я выросла, имел одну большую комнату, разделенную тонкими ширмами, которые мой отец установил (на разных стадиях завершения), чтобы обозначить разные зоны для разных нужд. На самом деле, у нас было так мало места, что все делалось там, где можно. Иногда моя «комната» выполняла функции кухни, а «кухня» — мастерской. Пространство было тесным, и пройти через него было трудно, приходилось прыгать и уворачиваться от перегородок и немногих вещей, что у нас были.
Дом восхищал меня своим масштабом, и я едва ли слушала возвышенные бредни старика. В коридорах стояли стулья, на которых никто не сидел, и украшения, каких я никогда не видела: картины, вазы и изысканные чаши. Он явно жил здесь долго, его ноги уверенно следовали маршрутами, по которым он, должно быть, проходил тысячу раз. На втором этаже находились жилые помещения, большинство дверей были закрыты, но мужчина провел меня в одну из них. В левом углу стояла аккуратно заправленная кровать, достаточно большая для двоих, с пушистыми тканями, выглядывающими из-под блестящего покрывала. Справа находился большой деревянный стол с одним резным деревянным стулом за ним и двумя меньшими — перед ним. Старик занял свое место на резном стуле, аккуратно сложив свое одеяние за спиной, когда сел.
— Садись, пожалуйста, — жестом пригласил он.
Я осторожно села на один из меньших стульев.
— Это мой офис, а по совместительству — моя спальня, — сказал старик. — Ты можешь стучать в мою дверь в любое время, если тебе что-то нужно.
Он откинулся на стуле, его руки удобно устроились на коленях, пока он смотрел на меня, ожидая ответа. Я знала, что должна сказать ему что-то большее, чем просто «хорошо».
— Кто такой Джексон? Он работает на вас? — спросила я.
— Джексон — один из наблюдателей, — старейшина ненадолго замолчал, устраиваясь в кресле удобнее. — Ты, должно быть, уже поняла, что твой комплекс — твой дом — не единственный в своем роде. Мы сейчас находимся в секторе четыре. Твой был сектором два. Всего их пять — ну, четыре, теперь, когда сектор два больше не существует. Джексон и другие наблюдатели следят за тем, чтобы все работало так, как должно. Они вмешиваются, когда возникают проблемы, как это было, когда ритуал в секторе два был нарушен после твоего побега. Он хороший человек. Ты можешь ему доверять.
Слова, такие как «доверие» и «хороший», к этому времени потеряли для меня всякий смысл. Знакомая злость начала разгораться в животе, но я старалась сохранять спокойствие. Если у меня была хоть какая-то возможность выжить здесь, мне нужна была вся информация, которую я могла получить.
— И эти сектора… они все проводят один и тот же ритуал? — спросила я.
— Верно, хотя они находятся на разных стадиях. Дети должны достичь определенного возраста, прежде чем это станет целесообразным. Твой сектор был самым близким к успешному ритуалу за последние десятилетия., — старик замер на мгновение, его глаза, казалось, потускнели от глубоких раздумий. — Позволь мне пояснить. То, что произошло в секторе два, было совершенно ужасным. Мы не хотели, чтобы все пошло так. Ты не виновата. Некоторые мужчины — они… недобросовестные. Глупые даже. А то, что случилось с твоей матерью и другими детьми… Трагедия. Я сожалею о той боли, которую это причинило тебе. В этом есть и доля моей вины.
— Спасибо, конечно, — сказала я, и слова прозвучали совершенно пусто. — Но зачем вы меня позвали?
— Отличный вопрос; я знал, что ты умная. Мы хотели бы, чтобы ты работала на нас, помогла завершить ритуал здесь, в секторе четыре. Твои обязанности будут похожи на обязанности Джексона, только в меньшем масштабе. Мы хотели бы, чтобы ты следила за детьми группы. Убедись, что то, что случилось с тобой, не повторится с другими. Держи их под контролем, если можно.
— То есть я должна следить за тем, чтобы никто не сбежал? Чтобы никто не ушел, как я?
— Именно, — сказал мужчина с удовлетворением.
— Но… — я начала, но злость теперь превратилась в грубый ком, царапающий горло, умоляя выпустить ее наружу. — Но что, если им нужно сбежать? Причина, по которой я сбежала, заключалась в том, что все было плохо. Я была несчастна. Мои родители ненавидели меня, но даже так я не хотела бы, чтобы они погибли. Я хотела уйти как можно дальше оттуда, куда угодно. Почему я не должна хотеть этого для других? Почему я не должна хотеть избавить их от всей этой боли?
Я испугалась того, что только что сказала, но предположила, что он ждал этого вопроса. Это был самый очевидный и, следовательно, самый важный вопрос из всех. Мужчина задумался на мгновение, и я почти слышала, как ржавые механизмы его разума формулируют удовлетворительный для меня ответ. Он хотел держать меня под контролем.
— Ты умная, однако есть вещи, которые мы скрываем от детей, включая тебя. Для их же безопасности. Но… я доверяю тебе достаточно, чтобы раскрыть эту информацию, и надеюсь, что ты не злоупотребишь ею.
Он подождал немного, и я кивнула в знак понимания.
— Жизнь в секторах сложна, да, но ты знаешь, что там, снаружи? Что хранит внешний мир? Я пришел оттуда. Я родился и вырос там, и все, что я когда-либо видел, — это страдания. Смерть и болезни царят повсюду, и люди убивают своих братьев и сестер за кусок хлеба, за стакан чистой воды. Мы хотели построить что-то лучшее, и так и появились сектора. Сначала было трудно, но мы добились больших успехов в улучшении жизни всех в группе. Вот почему мы любим друг друга, потому что там, снаружи, любовь давно исчезла. Там любовь — просто легенда. Пустое воспоминание. Но мы — мы хотели чего-то лучшего. Так что, как видишь, убегать туда — это как бежать в пасть голодного зверя. Почему, как думаешь, так много людей присоединилось к нам?
Мне было все равно, почему люди присоединились. Я могла видеть, как гнев моего отца являлся изображением безбожного, жестокого мира, так зачем же ему стремиться к любви и общности? Игнорируя вопрос, я спросила сама:
— А что насчет ритуала? Какое отношение имеет контроль над кучкой детей и убийство их матерей к любви и лучшему миру?
Я могла видеть по блеску в его глазах, что задала второй по важности вопрос.
— Ритуал не убивает матерей. Не в каком-то реальном смысле, по крайней мере.
— Что? Я видела их! У них были проломленные головы. Их просто скинули в яму после всего!
— Это потому, что ритуал не был завершен. Теперь позволь мне задать тебе вопрос: как ты думаешь, как мы защищаем себя от ужасов внешнего мира? Разве они не просачивались бы к нам, как это происходит во всех уголках мира снаружи?
Я хотела сказать «с помощью оружия», но вместо этого промолчала.
— Ритуал защищает нас. Или, точнее, К’алут. Это то удивительное существо, которое ты видела дома, выходящее из своего логова в лесу. Много лет назад первые из нас заключили с ним сделку, что он будет защищать нас от внешнего мира, чтобы мы могли жить в гармонии в нашем сообществе. К’алут намного старше нас, и для того, чтобы он согласился, потребовалась немаленькая жертва. Видишь ли, К’алут умирает. Медленно, да, но его время истекает. Мы согласились помочь ему родить больше своих сородичей, и именно об этом ритуал. Мы и К’алут образуем своего рода симбиоз, если можно так сказать. Мы дополняем друг друга, один помогает другому. Жаль, что ты не увидела, как это происходит, ведь это должно быть прекрасным зрелищем.
— Так вы что, никогда этого сами не видели?..
— Я надеюсь увидеть это. Однажды.
— А матери? Их не убивают, если все идет по плану?
— Верно. Им даруют новую жизнь. Они перерождаются в нечто большее, нечто чистое. Но твоя мать — и все остальные матери — не достигли этой стадии. Если бы все пошло по плану, твоя мать все еще была бы жива, выполняя ту цель, к которой она готовилась. Видишь ли, мы никого не заставляли присоединяться. Никогда. Твоя мать была готова пожертвовать своим телом не потому, что она уступила перед нашей силой и агрессией; она хотела жить снова, как нечто большее. Она хотела быть перерожденной. И ты не хотела бы лишить кого-то этой судьбы, не так ли, Эллисон? Это было бы жестоко — позволить женщинам здесь погибнуть, как это случилось с твоей матерью, застряв в лимбе незавершенных дел, брошенными в безбожную пропасть. Ты не хочешь этого, правда?
Старик теперь наклонился к столу, его пальцы сплелись в замок, отбрасывая скелетную тень на меня.
— Конечно же нет, — сказала я.
— Отрадно слышать, — сказал он, откинувшись в кресле. — Действительно отрадно. Я понимаю, что ты все еще не полностью доверяешь мне. Это хорошо. Чужакам никогда не следует доверять, и я рад, что это понимание осталось с тобой даже сейчас. Но я хочу показать тебе кое-что, что, возможно, поможет тебе понять, насколько ты нужна, и, может быть, после этого мы сможем начать формировать дружеские отношения.
Он встал из своего кресла, и я последовала за ним обратно на улицу. Мы пересекли слабо освещенную дорожку к меньшему, похожему на хижину зданию, которое находилось близко к забору, окружающему комплекс. Толстая дверь также была заперта на четырехзначный код. Как только мы вошли, старик быстро захлопнул дверь.
Здание было устроено как одна большая комната с рядами мониторов, аккуратно выстроенными вдоль задней стены. На них отображались разные движущиеся изображения: некоторые показывали людей, стоящих или идущих, некоторые — с высоты обращены на комплексы, некоторые направлены на линии деревьев. Перед мониторами стоял широкий изогнутый стол, уставленный всевозможной техникой, в которой я ничего не понимала. За столом на мягком кожаном кресле сидел человек, повернувшись к мониторам.
— Это старейшина Алстон, он отвечает за наблюдение здесь, в секторе четыре, — сказал старик.
Кресло бесшумно развернулось, открывая взгляду худощавого мужчину средних лет. Его черты были невзрачными и частично затененными, так как в комнате не было других источников света, кроме мониторов, ярко освещающих пространство, причиняя мне дискомфорт. Он выглядел довольно молодым, чтобы называться старейшиной…
— Старейшина Джон, — кивнул мужчина старику. — Рад видеть. А это, должно быть, Эллисон, — сказал он, немного повернув кресло ко мне и протянув руку для рукопожатия, оставаясь на месте. Я подошла к нему и пожала руку. Его мозолистые пальцы царапнули мне запястье.
— Я хотел показать Эллисон, что происходит, когда ритуал идет не так. Включи все камеры из сектора два, пожалуйста.
Алстон, не отвечая, быстро развернул кресло с помощью толчка ноги. Небольшой изогнутый предмет щелкнул под его правой рукой, когда он нажал кнопки левой. Судя по его отрепетированным движениям, он явно долго работал на этой должности. Один за другим мониторы начали переключаться. Большинство из них не показывали ничего важного, но я заметила знакомые места. Фермы, снятые с неудобного ракурса. Линия деревьев рядом с домом старейшин. Дорожка, ведущая к главным воротам. Старик объяснил, что это все прямые трансляции, то есть все в реальном времени. Сектор два. Мой дом.
Монитор в верхнем левом углу переключился снова, и я увидела движение. Он показывал главную поляну, где старейшины проводили ритуал, с большого расстояния. Как будто птица наблюдала с высоты.
На экране появлялись яркие вспышки, показывающие поляну. Хотя было темно, я могла различить сцену и где-то посередине холм, которого я никогда раньше не видела. Что-то большое и зловещее двигалось там, и я боялась, что точно знаю, что это.
Мои подозрения подтвердились, когда один из мониторов в центре переключился на другой канал. Он показывал центр поляны более четко, излучая конус света впереди.
— У нас есть звуковая трансляция? — спросил Джон.
— Сейчас подключу, — ответил Алстон, нажимая на другую комбинацию кнопок. Комната наполнилась хаосом звуков.
Юные голоса, высокие и ломающиеся от переходного возраста и страха, кричали от ужаса и паники. Я чувствовала себя так, будто была там с ними. Я не могла определить, откуда они доносились, но казалось, что они были повсюду вокруг меня. Страх охватил мои чувства, но спокойствие, которое излучали Алстон и Джон, удерживало меня на месте. Я не хотела казаться слабой. Быстрые всплески движения фиксировались на экранах, и, наконец, сцена начала складываться в моем сознании. Они не были здесь со мной; я наблюдала за ними из безопасности этой холодной экранной комнаты.
Я увидела, как кто-то из детей мчится куда-то на мониторе справа, но существо настигло его и прижало копытом к земле. Неподвижная, твердая земля не поддавалась давлению, и глаза ребенка начали вылезать из орбит, его внутренности выдавливались из кожи. Ребра мальчика начали трещать одно за другим, пока часть его скелета, удерживающая торс, не разрушилась полностью, отправив его органы вываливаться из боков через разорванную кожу. Он выглядел как тюбик зубной пасты, выжатый до конца; его торс плоским блином лежал на земле, а голова была чуть приподнята на сохранившейся части его оскверненного тела. Я видела ужас в его глазах; рот был открыт, но крик не раздавался. Нечем уже было кричать; его легкие, горло и все остальные органы, которые он использовал для речи, дыхания и жизни, были раздавлены в плоский диск. Наконец, его глаза полностью выскочили из орбит, и его лицо рухнуло в землю, в забытье смерти.
На другом мониторе я увидела, как чудовище использует щупальца, вырывающиеся из его тела, чтобы с жуткой методичностью обвить и поднять девочку. Схваченная за талию, она отчаянно размахивала руками и ногами в безуспешной попытке вырваться на свободу. Появилось еще одно щупальце, которое, казалось, изучало девочку, зависнув в воздухе, будто оценивая ее. Щупальце схватило левую руку и без видимого напряжения оторвало ее, как мертвую, гнилую ветку из дерева. Девочка закричала и начала дергаться еще сильнее, однако это ничем не помогло. Вырванное предплечье оставило культю, поливающую землю под ней свежей кровью, куски мышц и сухожилий болтались в воздухе, словно черви. Еще щупальца появились на экране, когда первое уронило оторванную руку на землю. Каждое из них схватило по конечности, натянув их так, что единственное, чем она могла двигать, — это голова. Щупальца работали медленно, тянули ее в разные стороны в чистом мучении, растягивая руки и ноги как эластичную резину. Первой оторвалась правая нога, оставив культю у бедра. Два оставшихся щупальца тянули в противоположные стороны, пока правая рука и левая нога не оторвались одним резким движением. Девочка перестала двигать головой. Она висела в воздухе, подбородок упал на грудь. Существо уронило ее тело на землю, как игрушку, к которой потеряли интерес от слишком долгой игры.
Чудовище двинулось, и на следующем мониторе я увидела, как оно схватило двух мальчиков, поднимая их на несколько футов над землей на отдельных щупальцах. С громким ударом оно столкнуло мальчиков друг с другом, их головы дергались в воздухе, как будто вот-вот оторвутся от шеи. Но им не было оказано такой милости. Существо сделало это снова, и снова, и снова, каждый удар был быстрее предыдущего, пока парнишки не превратились в кашу из плоти и разломанных торчащих костей, выброшенные на землю. Оно перешло к следующей жертве.
Старик, должно быть, почувствовал мой ужас и тошноту, внезапно приказав: «Хватит!» Алстон нажал несколько кнопок, и в комнате воцарилась тишина, мониторы вернулись к своим первоначальным изображениям сектора четыре.
— Я... я думала, что... — мой голос дрожал. — Джексон сказал, что позаботится о них.
— Они опоздали, — сказал старший Джон. — Эллисон, позволь мне прояснить. Ничего из этого не должно было произойти. Это было совершенно предотвратимо. Наблюдатели опоздали, их стремительное прибытие было задержано попыткой прикрыть все происходящее, которую хотели осуществить мужчины из второго сектора. Было… слишком поздно.
Все, кого я когда-либо знала, были либо мертвы, либо на грани смерти. Мир превратился в темную бездну, и я желала быть среди них. Я заслуживала этого; возможно, они были бы спасены, если бы я не сбежала. Может быть, все было бы в порядке, как сказал Джон. Конечно, он сказал, что это не моя вина — но насколько я могла ему доверять? По крайней мере, до всего этого я могла доверять себе, своим инстинктам. Теперь даже это вызывало сомнения. Я больше не знала, где верх, а где низ. Тот верный голос, который говорил мне продолжать двигаться и не сдаваться перед лицом всего, что я пережила, теперь исчез. Ни звука не донеслось в сознании. Я была оболочкой, ходячим проклятием, существом, оскверненным своей собственной жадной жаждой лучшей жизни, которая, как я знала, была и всегда будет лишь плодом моего воображения.
— Уже поздно, — сказал Джон. — Спасибо, старейшина Алстон. Думаю, я покажу Эллисон ее комнату.
Мы покинули мониторную будку и спустились с холма к домам, где жила остальная группа. Уже стемнело, и, в отличие от дома, я не знала тут каждую ямку и изгиб земли наизусть, поэтому пришлось приложить усилия, чтобы не споткнуться.
— Я устроил так, чтобы ты жила с одной из семей. Это хорошие люди, у них даже есть дочь твоего возраста. Ну, все дети здесь примерно твоего возраста. Думаю, она тебе понравится.
Мы подошли к двери, и старейшина Джон постучал. Судя по всему, семья ожидала нас, потому что когда женщина открыла дверь, ее рубашка была чистой, а за спиной я увидела, что дом был убран и организован так, чтобы соответствовать визиту старейшины.
— Ты, должно быть, Эллисон, — сказала женщина. Я кивнула ей в ответ.
— Надеюсь, мы пришли не слишком поздно, знаю, что вам предстоит раннее утро, — сказал Джон.
— О, старейшина Джон, совсем нет, — ответила женщина. Но я знала, что это не так. Она работала на ферме, а это значит, что у нее было мало времени для сна.
Джон присел на корточки и посмотрел на меня.
— Ну, вот и всё. Помни, о чем мы говорили. Они позаботятся о тебе, и мы скоро поговорим.
Мне нечего было сказать ему, и, думаю, он это знал.
Женщина взяла меня за руку и провела внутрь, попрощавшись с Джоном. Как только дверь закрылась, ее плечи опустились, и усталость отразилась на ее лице.
— У нас ранняя побудка, так что я пойду спать. Ты будешь спать с Луной, — сказала она.
Она провела меня в импровизированную комнату в дальнем конце дома, где стояли две узкие кровати, расположенные по разные стороны. На одной из них сидела девочка с длинными тёмно-коричневыми волосами и зелеными глазами. На ее прикроватной тумбочке горела масляная лампа, но даже в таком тусклом свете я могла видеть, что она очень красивая.
— Луна, — сказала женщина, — это Эллисон. Надеюсь, вы сможете подружиться.
Луна не удостоила меня приветствием. Я заметила на ее лице ту же безразличную маску, что носила и я. Мама, казалось, была недовольна её неприветливостью, но, возможно, из-за усталости решила не настаивать.
— Ты займешь другую кровать, Эллисон. Это теперь твой дом.
— Спасибо, — прошептала я и села на кровать, глядя на Луну и ее маму. Все молчали.
— Ну, спокойной ночи, — сказала женщина. — Луна может показать тебе окрестности завтра, если хочешь. — она обернулась к Луне, ее брови нахмурились. — Не так ли, Луна?
— Конечно, мама, — ответила Луна, прерывая свое угрюмое молчание с ноткой сарказма. Даже ее голос был красивым, хоть и звучал язвительно.
Как только женщина ушла, Луна потушила масляную лампу, и мы остались в полной темноте. Я неловко прошла к кровати, снимая обувь и пытаясь устроиться под тонким одеялом.
Закрыв глаза, я пожелала никогда больше их не открывать.
Телеграм-канал чтобы не пропустить новости проекта
Хотите больше переводов? Тогда вам сюда =)
Перевел Хаосит-затейник специально для Midnight Penguin.
Использование материала в любых целях допускается только с выраженного согласия команды Midnight Penguin. Ссылка на источник и кредитсы обязательны.