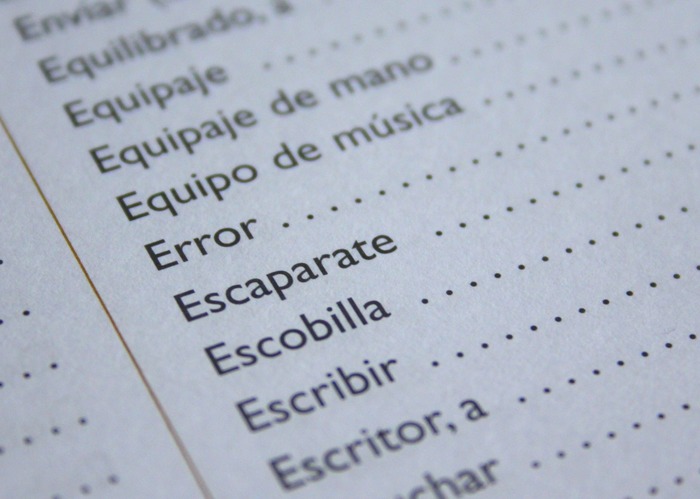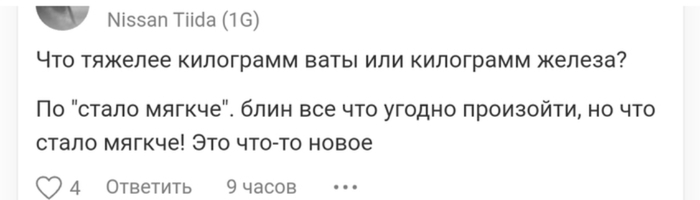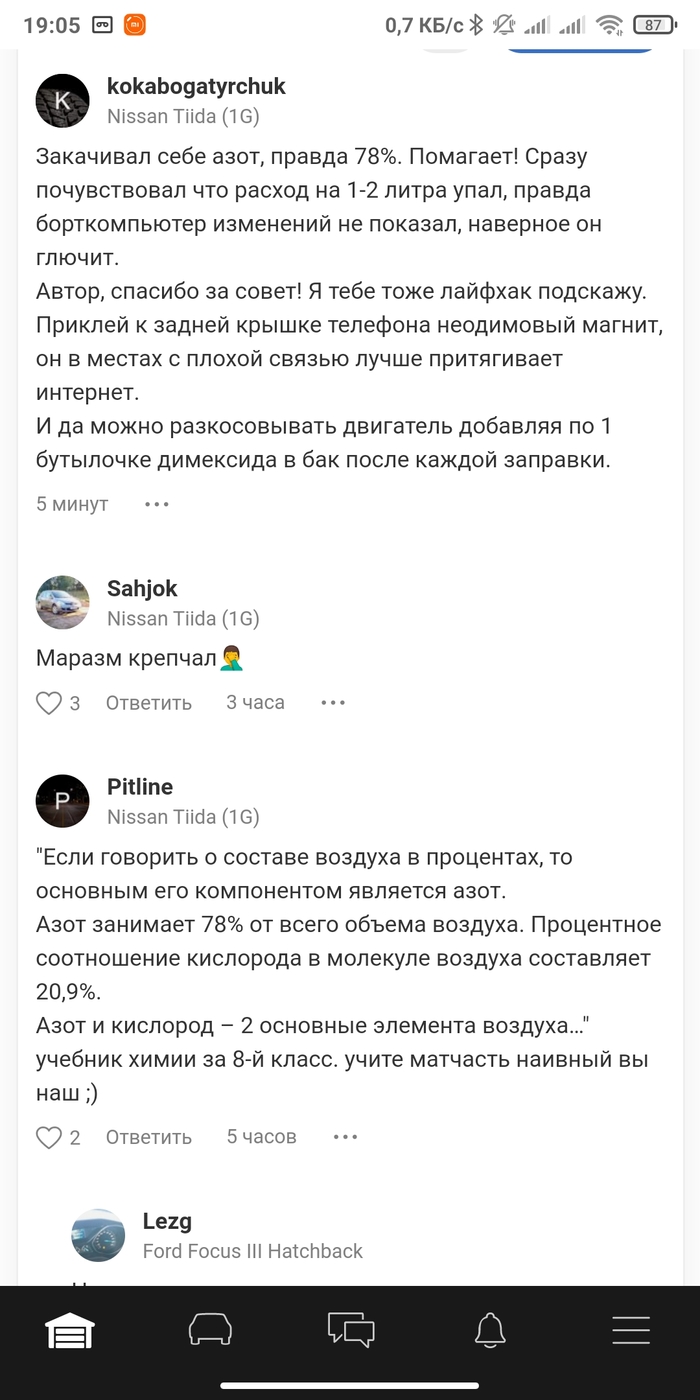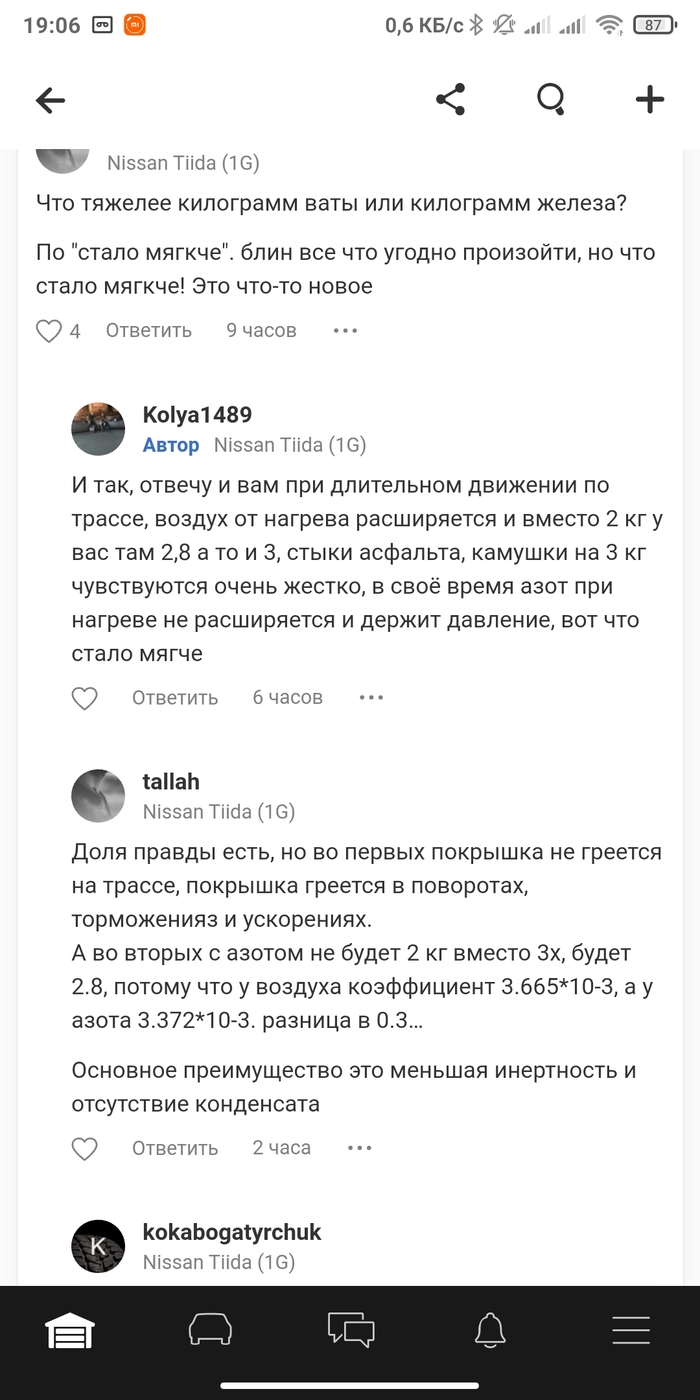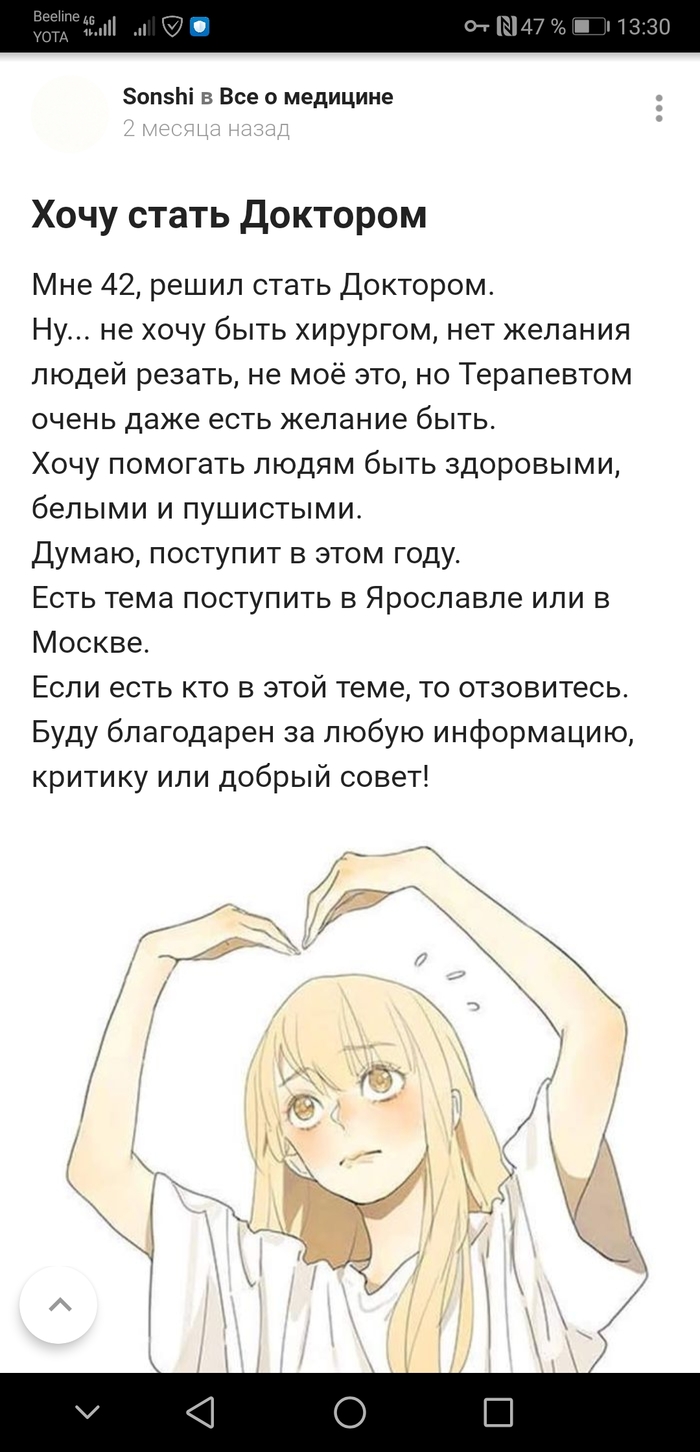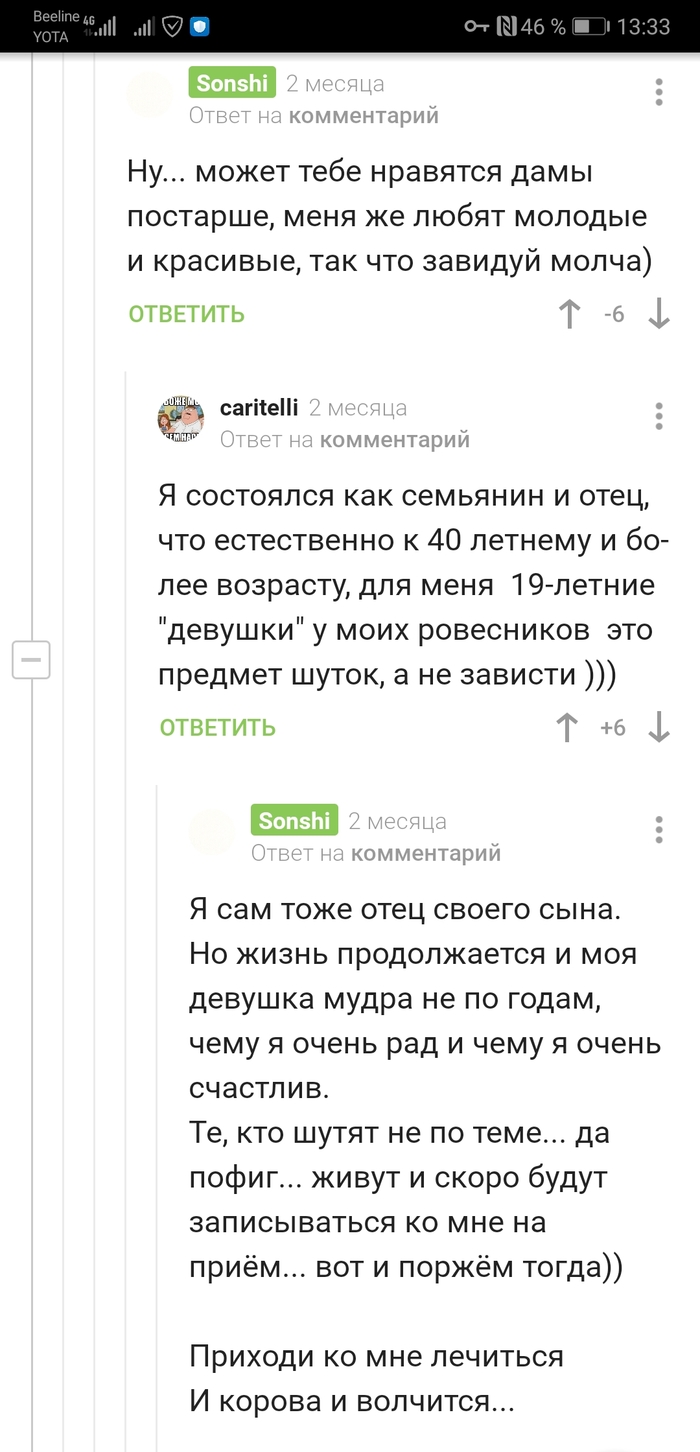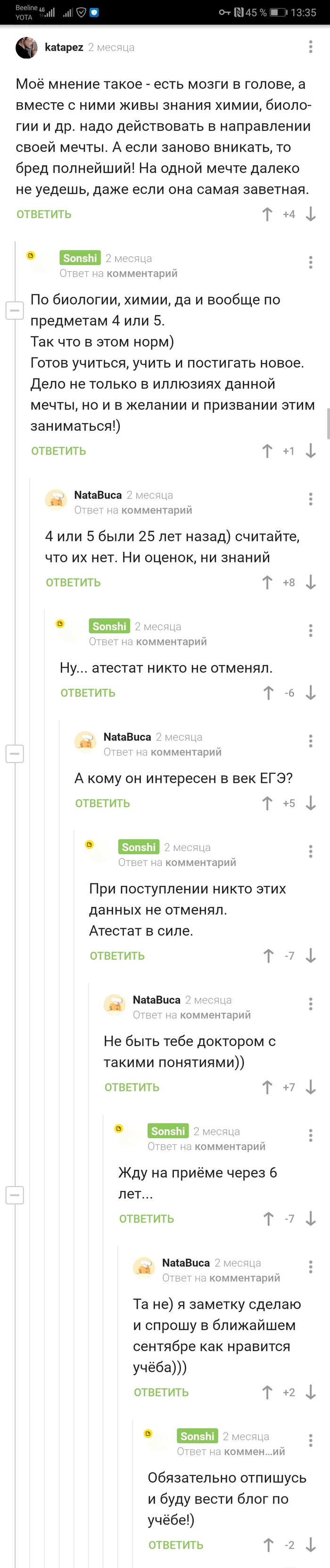Научная критика гипотезы А.Т. Фоменко о новой хронологии по А.А. Зализняку
Данная статья относится к Категории: Проверка научных гипотез
«Строгого определения для этого «доказательства в слабом смысле», по-видимому, дать невозможно.
Практически имеется в виду, что предложенная гипотеза, во-первых, полностью согласуется со всей совокупностью уже известных фактов, имеющих отношение к рассматриваемой проблеме, во-вторых, является почему-либо безусловно предпочтительной из всех прочих мыслимых гипотез, удовлетворяющих первому требованию.
В отличие от математического доказательства, «доказательство в слабом смысле» может и рухнуть, если откроются новые факты или будет выяснено, что автор не учел каких-то принципиально мыслимых возможностей. Всё это не значит, однако, что утверждения гуманитарных наук вообще не могут претендовать ни на какую точность и надёжность и что в этой области любая гипотеза не хуже и не лучше, чем любая другая. В гуманитарных науках, так же, как, например, в естествознании, долгим опытом выработаны критерии, позволяющие оценивать степень обоснованности того или иного утверждения даже при условии невозможности доказательства в абсолютном смысле.
Взявшись за построение гипотез в области истории и лингвистики, АТФ должен быть судим ровно тем же судом, что и обыкновенные историки и лингвисты. Для него не возникает решительно никаких привилегий из того, что он математик (и даже математический академик). В частности, он не вправе ожидать от критиков каких-либо скидок на его непрофессионализм в данной науке, коль скоро он предпринимает ревизию именно этой науки.
В связи с этим не могу не осудить аннотацию к книге [НХ] (Новая хронология – Прим. И.Л. Викентьева) и вынесенные на обложку сведения об авторах. В аннотации говорится: «Предназначена для самых широких кругов читателей, интересующихся применением естественно-научных методов в гуманитарных науках».
Это дезинформация: в книге используются обычные гуманитарные методы. Ещё не раскрыв книгу, читатель узнаёт также о многочисленных заслугах и рангах АТФ в области математики. Это прямое давление на читателя с тем, чтобы он перенёс свой запас доверия к математике на книгу, которая к математике уже отношения не имеет и которая одним лишь своим содержанием у него доверия не вызвала бы.
В ранних работах АТФ лингвистические и филологические вопросы занимали скромное место. В дальнейшем их роль возросла. В книге [НХ] их роль уже настолько велика, что эту книгу вполне можно рассматривать как сочинение не только по истории, но и по лингвистике и филологии. Та или иная апелляция к языку возникает у авторов почти по каждому обсуждаемому вопросу.
Следует различать два вида соприкосновения с филологической и лингвистической проблематикой в работах АТФ: открытое (когда непосредственно обсуждаются какие-то слова или тексты) и скрытое. Второе имеет место во многих случаях, когда читателю кажется, что речь идет просто о тех или иных вычислениях. Например, когда АТФ, вслед за Н.А. Морозовым, изучает даты затмений и показывает нам, что данные астрономии в ряде случаев не сходятся с сообщениями древних историков и летописцев, читатель часто не осознаёт, что сравниваемые колонки данных (астрономических и летописных) имеют совершенно разную природу.
Астрономические данные объективны (или, если угодно, стоят близко к самому верху признаваемой ныне человечеством шкалы объективности), тогда как вторая колонка - это результат филологического анализа определенных древних текстов, и её надежность полностью зависит от того, насколько успешно проведен этот анализ.
Установление точного смысла некоторого древнего сообщения - операция далеко не простая. Прежде всего, филолог должен непременно иметь перед собой текст этого сообщения в подлиннике: любой перевод - не только литературный, но даже буквальный - в силу разницы в структуре языков неизбежно вносит в смысл текста некоторые малозаметные модификации, какая- нибудь из которых может впоследствии оказаться причиной ложного истолкования. […]
Рассказывая о затмении 431 г. до н. э., Фукидид сообщает о том, что солнце стало месяцевидным, а также о том, что появились кое-какие звёзды. АТФ, исходя из литературного русского перевода Фукидида, понимает это так, что сперва солнце стало месяцевидным, а позднее (когда затмение достигло полной фазы) появились звезды. Тем самым АТФ видит здесь сообщение о полном солнечном затмении. Однако, как показали названные авторы, такое толкование возможно только для использованного АТФ перевода.
Подлинный текст Фукидида такой возможности не даёт: он может быть понят только так, что указанные события одновременны: солнце стало месяцевидным (т. е. затмилось неполностью) и при этом появились кое-какие звёзды.
АТФ исходит из презумпции, что ни при каком частичном солнечном затмении никакие звёзды видны быть не могут. А.Л. Пономарёв указывает, что такие яркие звёзды, как Вега, Денеб и Альтаир, могут быть и видны (замечу, что при затмении на небе почти всегда должна быть и Венера, которая ещё много ярче, а в части случаев также и Юпитер).
Таким образом, даже если рассказ Фукидида о появлении кое-каких звёзд совершенно точен, вывод АТФ о том, что затмение было полным, оказывается необоснованным.
Но и в том случае, если бы презумпция АТФ была верна, его вывод всё равно не был бы единственно возможным. Чтобы понять это, здесь следует вновь обратиться к филологической стороне проблемы. Анализ древнего сообщения не ограничивается собственно лингвистическими вопросами; должны быть рассмотрены и вопросы литературоведческого характера. Какова литературная манера данного автора? Не имеет ли он обыкновения смещать или переставлять свои рассказы об отдельных событиях для большей эффектности композиции? Склонен ли он описывать повторяющиеся события с помощью однотипных формул? И т. д. Фукидид - писатель, а не протоколист.
Его сочинения обладают многими художественными достоинствами, невозможными при чисто протокольной фиксации фактов. Описывая затмение, тем более уже несколько отдаленное во времени, писатель, конечно, может для усиления художественного эффекта добавить от себя какие-то детали (типа появления звезд), известные по другим затмениям. В летописях детали подобного рода могли появляться также при позднейшем редактировании. […]
Этот пример может служить также хорошей иллюстрацией того более общего положения, что, вопреки расхожему представлению, активно эксплуатируемому авторами [НХ], использование математических методов в некоторой науке само по себе ещё вовсе не гарантирует какого-либо реального прогресса в этой науке. Как мы уже говорили, математик может применить свои методы, скажем, к истории не раньше, чем он решит для себя целый ряд частных вопросов содержательного характера, возникающих у него уже на этапе отбора материала для последующей математической обработки. Если этот предварительный этап своей работы (не математический!) он провёл неквалифицированно (не говорим уже о том катастрофическом случае, если предвзято), то полученный им в дальнейшем математический результат, пусть даже совершенно безупречный, останется не более, чем математическим упражнением, из которого, ввиду недоброкачественности исходных данных, для реальной науки истории не следует ровно ничего».
Зализняк А.А., Лингвистика по А.Т. Фоменко, в Сборнике Русского исторического общества, Том 3, М., «Русская панорама», 2000 г., с. 75-77.
Изображения в статье
Андрей Анатольевич Зализняк — советский и российский лингвист. Известен своими работами в области русского словоизменения и акцентологии, а также исследованиями по истории русского языка / Public Domain
Image by DarkWorkX from Pixabay
Image by Lucia Grzeskiewicz from Pixabay
Image by bdabney from Pixabay
Ответ на пост «На просторах drive2.ru»1
Раз пошла такая пляска, с физикой.
Почему многие думают, что килограмм ваты и килограмм железа весят одинаково?
Это же курс школьной физики 7 или 8 класс.
У железа гораздо большая плотность, соответственно килограмм стали будет тяжелее килограмма ваты.
Давайте вспомним вместе:
Плотность железа = 7,874 г/см^3
Плотность ваты от = 0.03 - 0.2 г/см^3
Получаем при одинаковой массе в 1 кг: (Вату возьмес среднюю плотность 0.1г/см^3)
Обьем железа массой кг - 127 см^3 , а ваты 10000 см^3. Разница в объемах составляет 9873 см^3.
Соответственно "Вес" это сила, и с сейчас посчитаем о вес килограмма железа и ваты (рисовать ничего не буду ибо лень):
Не забудем и про плотность воздуха при 20 °C, 101.325 кПа и сухом воздухе плотность атмосферы составляет 1.2041 кг/м³. Значит на железо и вату лежащие на чашах весов будет действовать сила Архимеда в воздухе равная произведению массы воздуха вытесненное веществом на ускорение свободного падения.
P (железа) = m(железа) * g (ускорение свободного падения) - сила Архимеда в воздухе действующая на железо = (1кг * 9.8м/с^2) - (1.2кг/м^3 * 0.000127 м^3) * 9.8м/с^2
P (ваты) = m(ваты) * g (ускорение свободного падения) - сила Архимеда в воздухе действующая на вату= (1кг * 9.8м/с^2) - (1.2кг/м^3 * 0.01м^3) * 9.8м/с^2
Мы получаем что кило ваты тяжелее кило железа примерно на:
(1кг * 9.8м/с^2) - (1.2кг/м^3 * 0.01м^3) * 9.8м/с^2 - (1кг * 9.8м/с^2) + (1.2кг/м^3 * 0.000127 м^3) * 9.8м/с^2 = 0.1176 Ньютон
В нормальных условиях кило железа всегда тяжелее на 0.1176 Ньютон
Доказательство и убеждение
Есть два распространённых способа в диалоге изменить мнение другого человека: доказательство и убеждение.
Доказательство – это большое количество фактов, которые освещают разные точки зрения и говорят «убедись сам». Если я хочу помочь человеку бросить курить, я могу показать ему исследования о том, что курение имеет психологическую основу, а никотин сам по себе не вызывает привыкания, и работать нужно со стрессом, а не с сигаретой в зубах.
Убеждение – это наглядный пример, часто простой и связанный с эмоциональным откликом. Например:
– Антоха курил как паровоз и в 40 лет имеет рак лёгких.
Или, наоборот:
– Мой дед в свои 90 продолжает курить и гнуть подковы.
Большинство людей занимаются убеждением, потому что так быстрее. Ты запоминаешь один простой и эмоциональный пример и превращаешь его в оружие. Люди, которые занимаются доказательством вообще редко вступают в диалог, потому что факты требуют проверки и надёжных источников. И всё же у них больше шансов оказать влияние.
Если вы хотите изменить мнение другого человека ищите доказательств. Ни одно, ни два, а десять. Возможно, в процессе вы даже поймёте, что проще не закидывать человека фактами, а попробовать вместе разобраться в вопросе.
Главное – всегда оставляйте человеку право «убедиться самому». Уважайте это право.
Учёные доказали, что у переболевших коронавирусом появляется длительный иммунитет к болезни. И дело не только в антителах
Исследование, опубликованное группой шведских учёных в журнале «Cell», предполагает, что у всех переболевших COVID-19 развиваются Т-клетки, которые могут идентифицировать и уничтожить вирус в случае его повторного появления.
Авторы нового исследования изучили кровь 206 шведов, которые перенесли COVID-19. Они обнаружили, что у добровольцев, независимо от степени тяжести заболевания, развивался устойчивый Т-клеточный ответ. Оказалось, что Т-клетки появлялись даже у пациентов, которые сдали отрицательный тест на антитела.
«Т-клетки памяти, вероятно, окажутся критически важными для долгосрочной иммунной защиты от COVID-19», — написали авторы исследования, добавив, что с их помощью можно избежать повторных эпизодов. Т-клетки памяти могут оставаться в организме годами, в то время как уровень антител падает, когда уходит болезнь, объяснили учёные.
Выводы шведских учёных подтверждают и другие исследования. Например, в работе, опубликованной в журнале Nature, говорится, что в группе из 36 выздоровевших COVID-19 каждый продуцировал Т-клетки памяти. Другое исследование показало, что среди 18 немецких пациентов с коронавирусом более 80% имели вирус-специфические Т-клетки.
Т-клетки памяти есть даже у людей, которые никогда не болели COVID-19, выяснили учёные. Они связали полученные результаты с явлением перекрёстной реактивности: когда Т-клетки, развивающиеся в ответ на другой вирус, реагируют на аналогичный, но ранее неизвестный патоген.
Эксперты считают, что эти перекрёстно-реактивные Т-клетки могли возникнуть в результате предыдущего контакта с вирусами, которые вызывают простуду. «Это объясняет, почему у некоторых появляются более легкие симптомы болезни, в то время как другие заболевают серьёзно», — сказал эпидемиолог Алессандро Сетте.
Данные, полученные в процессе изучения других коронавирусов вроде SARS, свидетельствуют о том, что продолжительность жизни Т-клеток может составлять десятилетия.
Напоминание пользователю о его обещании :)
Пару месяцев назад глубокоуважаемый мной @Sonshi опубликовал пост (Хочу стать Доктором), что в свои 41 год собирается идти обучаться на врача:
В ответ на оставленные ему комментарии уверил пользователей, что он молодец, жрец и на дуде игрец и со всем справится! Что, конечно, не вызывает сомнений
Кстати, у него ещё есть девушка, которой как раз исполнилось 19 лет и которая тоже планирует поступать в медицинский, пожелаем счастья этой паре!
Но к чему я, собственно, веду. @Sonshi клятвенно всех заверил, что от своих планов не отступится и обещался держать отчёт по поступлению, подаче документов, зачислению, обучению и так далее. Сегодня, восемнадцатого августа, закончился приём документов в университеты, а поста всё нет и нет. Как там дела, @Sonshi, как поступление вас и вашей юной девушки?
@caritelli, @NataBuca, привет и вам!
Объяснение законов природы по Джону Миллю
Данная статья относится к Категории: Проверка научных гипотез
«Объяснением» единичного факта признают указание его причины, т. е. установление того закона или тех законов причинной связи, частным случаем которого или которых является этот факт.
Так, пожар объяснён, раз доказано, что он возник от искры, упавшей на кучу горючего материала. Подобным же образом всякий закон, всякое единообразие в природе считают объяснённым, раз указан другой закон (или законы), по отношению к которому (или которым) первый закон является лишь частным случаем и из которого (или которых) его можно было бы дедуцировать.
Есть три различных ряда обстоятельств, при которых законы причинной связи могут быть объясняемы из других законов, или, как часто также выражаются, «разлагаемы» на другие законы.
Во-первых, случай смешения законов, производящих совокупное следствие, равное сумме следствий отдельно взятых причин. […]
Второй случай объяснения законов причинной связи мы имеем тогда, когда между тем, что казалось причиной, и тем, что считали её следствием, дальнейшее наблюдение открывает некоторое посредствующее звено - какой-либо факт, обусловливаемый прежним предыдущим и, в свою очередь, служащий причиной того, что прежде было последующим.
Тогда то, что прежде считалось непосредственной причиной, становится причиной лишь отдалённой, действующей через посредство нового, промежуточного явления. А считали причиной С; но впоследствии оказалось, что А служит причиной лишь В, а уже В есть причина С. Например, люди знали, что прикосновение к внешнему предмету причиняет ощущение. Впоследствии было открыто, что после прикосновения к предмету и ранее появления в нас ощущения происходит некоторое изменение в той (называемой нервом) нити, которая идёт от наших внешних органов к мозгу. Поэтому прикосновение к предмету стало лишь отдалённой причиной ощущения - не причиной в собственном смысле слова, а лишь причиной причины; действительной же причиной ощущения явилась теперь перемена в состоянии нерва.
Дальнейший опыт может не только дать нам более глубокое, чем теперь, знание сущности этой перемены; он может также вставить ещё какое нибудь звено: может быть, например, что и между прикосновением предмета к нашим органам и переменой в состоянии нерва также происходит какое-нибудь явление - положим, электрическое или же другое, совершенно не похожее на следствия всех до сих пор известных факторов. До настоящего времени, однако, такого посредствующего звена не найдено, и прикосновение к предмету надо считать пока ближайшей причиной возбуждения нерва. Таким образом, факт следования осязательного ощущения за прикосновением к предмету не составляет конечного закона; этот факт, как говорится, «разлагается» (или «разрешается») на два другие закона: на закон, что прикосновение к предмету производит возбуждение нерва, и на закон, что возбуждение нерва производит ощущение.
Возьмём другой пример: сильные кислоты разъедают или делают черными органические соединения. Это - случай причинной связи, но лишь отдалённой. Его надо называть «объясненным», как только будет указано какое-либо посредствующее звено: как только будет доказано, что некоторые химические элементы органического тела отделяются от остальных его элементов и входят в соединение с кислотой. Тогда кислота становится причиной такого расщепления элементов, а уже это последнее - причиной потери телом органического строения и часто обугливания его. Точно так же хлор извлекает красящие вещества (откуда его белящее действие) и обеззараживает воздух. Этот закон разлагается на два следующие: первый - хлор имеет сильное сродство с «основаниями» всякого рода, особенно с металлическими основаниями и с водородом; второй - так как эти «основания» составляют существенные элементы красящих веществ и заразных начал, то хлор имеет способность разлагать и разрушать эти вещества и начала. […]
Кроме двух изложенных, есть ещё третий вид разложения законов одних на другие; очевидно, что и здесь те законы, на которые разлагаются другие, будут общее этих последних. Этот третий способ есть так называемое подведение одного закона под другой, или (что то же) соединение нескольких законов в один более общий закон, обнимающий их все.
Наиболее блестящим примером этого процесса было сведение земной тяжести и центральной силы Солнечной системы к общему закону тяготения. Было доказано, что Земля и другие планеты стремятся к Солнцу; что земные тела стремятся к Земле, это было известно с самых давних времен. Эти два явления были сходны друг с другом, и для подведения их обоих под один закон необходимо было только доказать, что, будучи одинаковыми по качеству, они подчиняются одним и тем же законам и по отношению к количеству. Впервые это было доказано относительно Луны, сходство которой с земными предметами заключалось не только в том, что она стремится к некоторому центру, но и в том, что этим центром служит Земля. Когда было установлено, что стремление Луны к Земле изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния, то отсюда путем прямого вычисления вывели, что, если бы Луна была столь же близка к Земле, как земные предметы, и если бы была устранена её тангенциальная сила, то Луна упала бы на Землю со скоростью стольких же футов в секунду, как и земные предметы, падающие на Землю в силу своей тяжести. Отсюда неизбежен был вывод, что и Луна стремится к Земле в силу своего веса и что эти два явления (стремление Луны и земных предметов к Земле), не только сходные по качеству, но (при одинаковых обстоятельствах) тождественные и по количеству - суть случаи одного и того же закона причинной связи. Далее, что стремление Луны к Земле, а Земли и планет к Солнцу представляют случаи одного и того же закона причинной связи, это было уже ранее известно. Таким образом, закон всех этих стремлений был признан тождественным с законом земной тяжести, и оба эти закона были подведены под один общий закон - закон тяготения.
Подобным же образом в недавнее время были подведены под законы электричества законы магнитных явлений. Таким именно путём получаются обыкновенно наиболее общие законы природы: мы доходим до них последовательным рядом ступеней.
Действительно, для того чтобы посредством правильной индукции получить законы, сохраняющее свою силу при таком громадном разнообразии обстоятельств и настолько общие, что они не зависят ни от каких доступных нашему наблюдению различий в пространстве и времени, - для этого по большей части нужно много отдельных рядов опытов или наблюдений, произведенных в разное время и разными лицами. Сначала устанавливается одна часть закона, затем - другая... Один ряд наблюдений показывает нам, что данный закон имеет силу при некоторого рода условиях, другой ряд - что он имеет силу при других условиях, и т.д. Соединяя в одно эти наблюдения, мы находим, что он имеет силу при гораздо более общих условиях или даже обладает всеобщим характером. В этом случае общий закон есть в буквальном смысле «сумма» всех частных законов; он сводится к признанию одной и той же последовательности явлений в различных рядах случаев, и его можно рассматривать просто как шаг в процессе так называемого «исключения». Стремление тел друг к другу, называемое нами теперь тяжестью, впервые наблюдалось только на земной поверхности, где оно проявлялось лишь в виде стремления всех тел к Земле и могло поэтому быть приписано какому-нибудь специфическому свойству Земли: здесь не было «исключено» одно обстоятельство - близость Земли. Для исключения этого обстоятельства нужен был новый ряд случаев в других частях Вселенной. Сами мы не могли произвести таких случаев, и хотя природа создала их для нас, однако мы были поставлены в условия, весьма неблагоприятные для их наблюдения.
Выполнение этих наблюдений естественно выпало на долю не тех лиц, которые изучали земные явления, так как наблюдения эти представляли большой интерес в то время, когда мысль об объяснении небесных явлений земными законами считалась смешением двух безусловно различных вещей. Когда, однако, небесные движения были точно исследованы и когда были выполнены дедуктивные процессы, показавшие, что законы этих движений и законы земной тяжести соответствуют друг другу, то эти наблюдения над небесной областью как раз и дали ряд случаев, «исключивший» обстоятельство близости к Земле. Они доказали, что и в первом случае - в случае с земными предметами - причиной движения или давления в направлении Земли была не Земля, как таковая, а одно обстоятельство, общее этому случаю с явлениями небесных движений: а именно, присутствие некоторого большого тела в пределах известного расстояния.
Итак, есть три способа объяснения законов причинной связи, или, что то же самое, сведения их к другим законам. Первый - когда закон какого-либо следствия соединенных причин разлагается на отдельные законы этих причин и на факт их сочетания. Второй - когда закон, связывающий какие-либо два несмежные между собой звена причинной цепи, разлагается на законы, связующие каждое из этих звеньев со звеньями, промежуточными между ними. В обоих этих случаях один закон сводится к двум и более другим. При третьем же виде объяснения два или более законов сводятся к одному: раз доказано, что данный закон выполняется в нескольких различных классах явлений, мы решаем, что то, что истинно в каждом из этих классов случаев, будет истинно и при некотором более широком предположении, совмещающем в себе то, что обще всем этим классам явлений. Здесь можно заметить, что этот последний процесс свободен от всех недостоверностей, присущих индукции по методу сходства, так как здесь нам нет нужды распространять результат умозаключения на какой-либо новый разряд случаев - сверх тех, сравнение которых дало этот результат.
Во всех этих трёх процессах одни законы сводятся, как мы видели, к другим, более общим - к законам, обнимающим все случаи, подходившие под прежние законы и, сверх того, ещё другие. Но при первых двух видах объяснения законы, получающиеся от разложения, бывают в то же время и более достоверны - другими словами, более всеобщи, чем законы разлагаемые. Действительно, эти последние, как оказывается, сами суть не законы природы, которые всегда отличаются всеобщей истинностью, а лишь результаты законов природы, истинные лишь условно и для большинства случаев. Никакой подобной разницы нет в третьем случае, так как здесь частные законы в действительности выражают собой как раз то же самое, что и общий закон, и всякое исключение из первых будет вместе с тем исключением и из последнего.
Все эти три процесса расширяют область дедуктивного знания, так как законы, таким образом разложенные, впредь можно дедуктивно выводить из тех законов, к которым они были сведены. Как уже было замечено, тот же самый дедуктивный процесс, которым доказывается тот или другой закон или факт причинной связи (когда этот закон или факт ещё не установлен), служит и для его объяснения (когда он уже установлен)».
Джон Милль, Система логики силлогистической и индуктивной: изложение принципов доказательств в связи с методами научного исследования, М., «Ленанд», 2011 г., с. 364-369.
Изображения в статье
Джон Стюарт Милль, Victoria Embankment Gardens, London/ CC BY-SA 2.0
Image by Gerd Altmann from Pixabay
Image by Pete Linforth from Pixabay
Image by Meredin from Pixabay
Image by Engin Akyurt from Pixabay
Image by Arek Socha from Pixabay