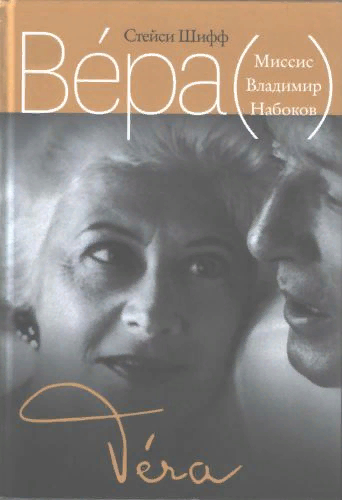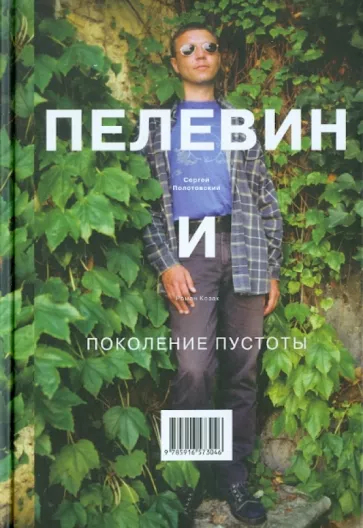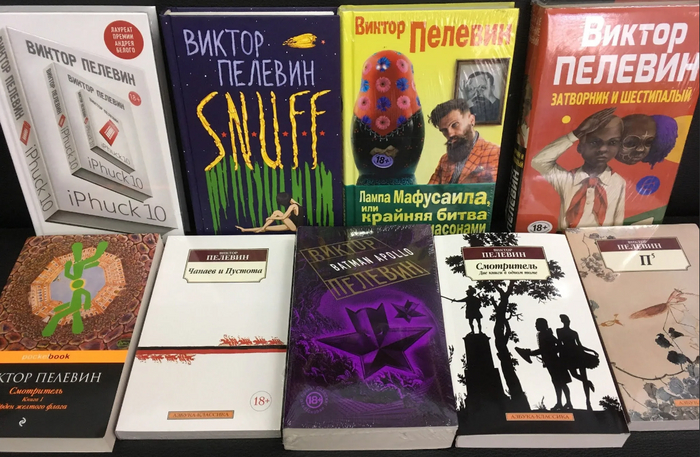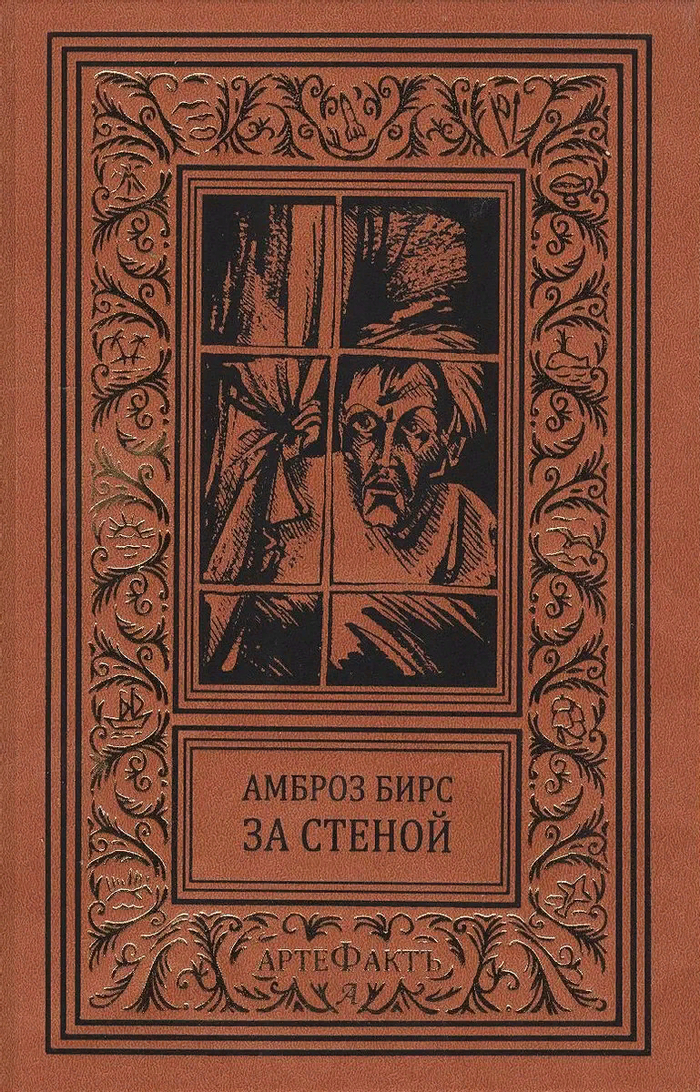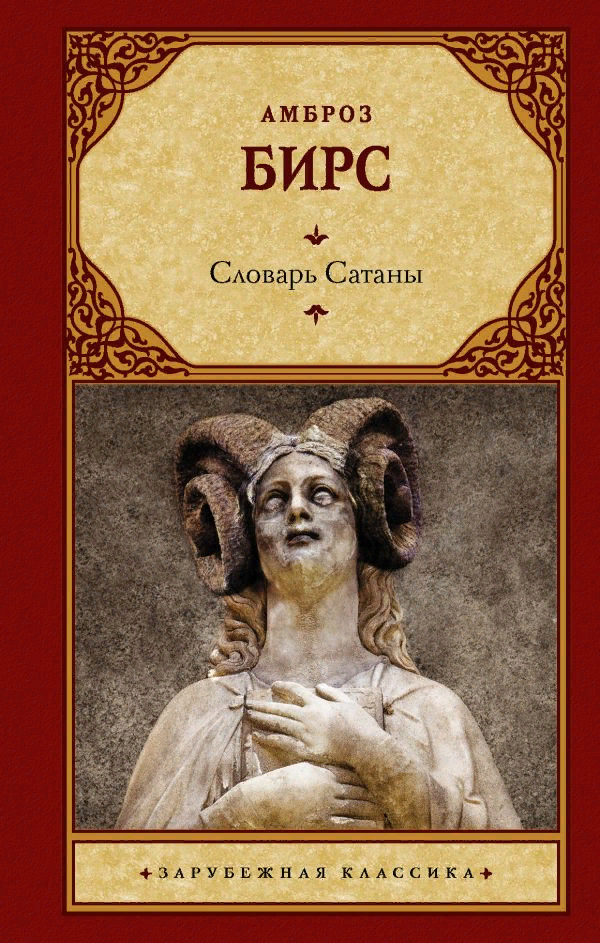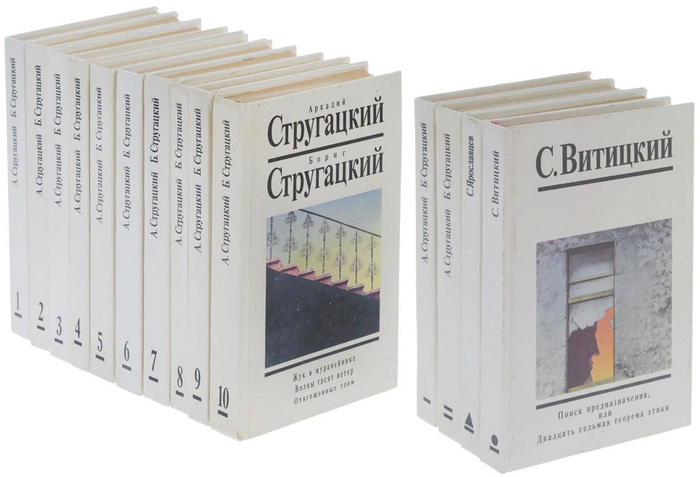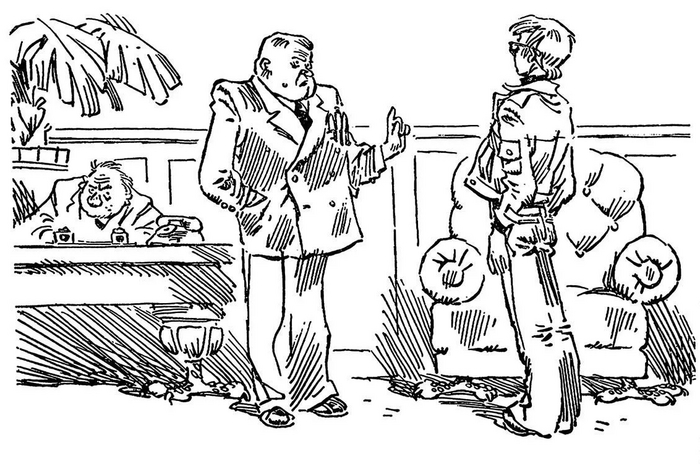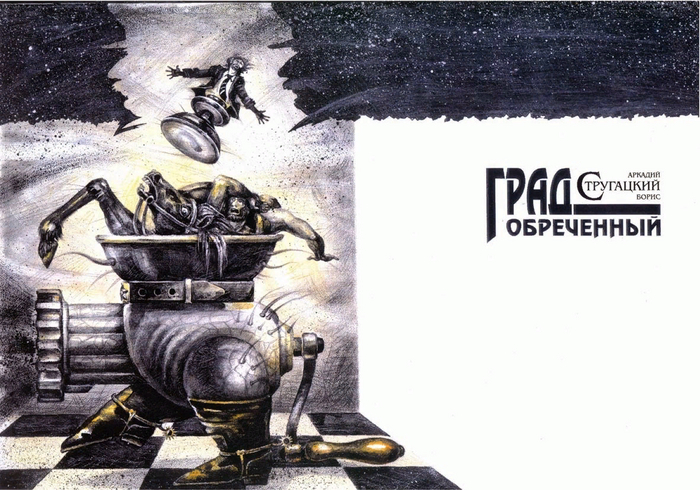Какой широкий спектр ощущений вызывали в ту пору их книги: холодок прикосновения к полудозволенному, не совпадающему с официальной идеологией; дрожь и щекотка разбуженного воображения; поглощенность изгибами и петлями сюжета; наконец, просто радость от встречи с неробкой мыслью и звонким словом…
А еще — причастность к мысленному эксперименту над действительностью, которая автоматически возвышает тебя над ней. Сочинения Стругацких давали импульс социального оптимизма. “Попытка к бегству” и “Улитка на склоне”, “Трудно быть богом” и “Сказка о Тройке”, “Второе нашествие марсиан” и “Гадкие лебеди” — все эти книги, далеко не всегда радостные и светлые по тону, неизменно ставили читателя в позицию силы и превосходства, позицию, с которой ясно видно во все стороны света, а тяготы и мерзости окружающей жизни могут быть если не сокрушены, то поняты, проанализированы — и высмеяны. Сходное действие оказала на меня, помнится, первая встреча с пьесами Брехта. Смех Стругацких был воистину победоносным и освобождающим.
Теперь это время кажется легендарным, мифическим. Где они, обитатели номенклатурного Олимпа, с которого метали молнии репрессий в непокорных титанов-диссидентов? Рухнул Олимп, но и мечты титанов о воле и правде развеялись. Титаны перемешались с низвергнутыми олимпийцами и вместе пошли в бизнес и власть. Гибель богов с последующей презентацией. Время Стругацких, время шестидесятников, время познания и сопротивления уходит в прошлое.
А загадка обаяния их книг — осталась. Не понят еще до конца “феномен Стругацких”, феномен колоссального читательского успеха их книг, растянувшегося по меньшей мере на четверть века. Этот успех нельзя объяснить только очевидными причинами: оригинальностью фантастических идей авторов, сюжетным накалом, перцем диссидентских аллюзий. Да и чисто литературная одаренность Стругацких, столь разительно отличавшая их от подавляющего большинства “товарищей по цеху”, работавших одновременно с ними в советской фантастике, не исчерпывает феномен до дна.
Один из факторов, на который до сих пор не обращалось достаточное внимание, — это ярко выраженная литературоцентричность прозы Стругацких. Свойство это, о котором здесь и пойдет речь, не так просто, как кажется с первого взгляда, и имеет неочевидные аспекты, которые я и попытаюсь прояснить.
Начиналось все, очевидно, просто с любви к хорошей литературе, к “чужому слову”, меткому и “красному”, с умения схватить и точно воспроизвести отчетливую повествовательную интонацию некоего хрестоматийного образца. Уже много сказано о влиянии стиля Хемингуэя (культового писателя советской оттепельной поры) на ранние произведения Стругацких. Лаконизм, несколько однообразный ритм коротких, рубленых фраз, имидж героя с богатым и драматическим личностным опытом, о котором он не хочет подробно распространяться, но который прорывается в намеках, проговорках, обрывках воспоминаний, ассоциациях — так строятся образы Ивана Жилина, Переца, Банева, позже Каммерера. Стругацкие поняли, что манера речи и поведения хемингуэевских персонажей, их приверженность “кодексу” перед лицом враждебных обстоятельств ситуативно оказываются как нельзя более кстати среди опасностей и трудностей космических перелетов, освоения инопланетных просторов или социально-приключенческих земных одиссей. И прививки этого хемингуэевского черенка к стволу их прозы, выполненные продуманно и мастеровито, оказались вполне плодотворны.
Однако восприимчивостью к литературным влияниям или использованием взятого напрокат реквизита (как в “Трудно быть богом”, где барон Пампа — вылитый Портос работы Александра Дюма-отца) дело у Стругацких, разумеется, не ограничивалось. Склонность к цитированию, интертекстуальные игры стали фирменным знаком их прозы. Взять, хотя бы, искрометный “Понедельник начинается в субботу”. Повествовательная ткань там обильно расшита фигурами и образами фольклора народов мира: инкубы и ифриты, джинны и гномы, вампиры и домовые так и кишат в стенах института НИИЧАВО. А рядом с ними Голем и Дракула, гомункулус, Мерлин — персонаж легенд “цикла короля Артура”.
Но — не только фольклор. И “авторская” классика очень широко представлена на страницах “Понедельника”. Главным образом в эпиграфах, которыми снабжены все главы повести. Это срез мировой литературы за два века. Стругацкие “почтили память” Гоголя и Эдгара По, Чапека и Уэллса, Диккенса и Уитмена, Мопассана и Стивенсона, Пушкина и Белля. Да и Рабле, выбивающегося из обозначенных хронологических рамок. Каждый эпиграф являет собой лаконичный комментарий к событиям, описанным в главе, иногда близкий по тональности тексту Стругацких, иногда нарочито контрастирующий с ним. Авторы умело используют таящуюся в точно подобранном эпиграфе потенциальную энергию для формирования, пестования, а иногда обмана читательских ожиданий. И одновременно — это веселое, непретенциозное заявление “наследственных прав” на высокую литературу, утверждение своего родства с ней.
Сходную тактику Стругацкие используют и в других своих произведениях. Повести “Трудно быть богом” предпосланы эпиграфы из Хемингуэя и Абеляра, “Хищным вещам века” — из Сент-Экзюпери, “Улитке на склоне” — из Пастернака и еще один, из старинной японской поэзии. Назначение этих эпиграфов несколько иное, чем в “Понедельнике”. Афористически отточенные и суггестивные строки классиков, порой само звучание их имен призваны перебросить в читательском сознании мостки между фантастико-приключенческим антуражем этих произведений и их аллегорическими, социально-философскими смысловыми проекциями.
Конечно же, “чужое слово” присутствует в произведениях Стругацких не только на правах эпиграфов. Их книги наполнены цитатами, как явными, так и раскавыченными, скрытыми, почти вплавившимися в авторский текст. Один из комментаторов творчества Стругацких А. Зеркалов как-то написал, что “в книгах Стругацких редко-редко встретишь стихотворную цитату”. Это совсем не так. Просто авторы порой маскируют эти вкрапления, никак не выделяя их. Вот пример такого рода. В повести “Волны гасят ветер” Каммерер в разговоре с Тойво Глумовым призывает его не принимать слишком близко к сердцу наличие в его организме “третьей импульсной системы”: “Не надо так расстраиваться… Что ты так расстраиваешься, словно к тебе уже “ухмыляясь, приближаются с ножами”?” Так вот, приближаются евреи, а ножи — для обрезания. И слова эти — усеченная строка из стихотворения Гейне “Диспут”, живописующего теологический спор между “капуцином и раввином” при королевском дворе в средневековой Испании.
В повести “За миллиард лет до конца света” растворенные в речи героев стиховые фрагменты призваны повысить эмоциональный тонус повествования, “взбодрить” читательское восприятие вторжением метра и ритма в стихию прозы. По большей части эти поэтические “клинья” анонимны, авторство их остается неизвестным широкому читателю, как, например, в случае: “Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я повернул обратно. С тех пор все тянутся передо мною кривые, глухие, окольные тропы…” На то, что читатель “вычислит” принадлежность этих строк японской поэтессе Йосано Акико, Стругацкие, очевидно, и не рассчитывали. Тем более что и с гораздо более доступными цитатами порой возникают курьезы. Тот же Зеркалов вспоминает в своем предисловии к собранию сочинений Стругацких следующую цитату из той же повести: “Он умел бумагу марать под треск свечки! Ему было за что умирать у Черной Речки…” И — приписывает эти строки Окуджавы Давиду Самойлову.
Но это к слову. К нему же стоит упомянуть тут и о присутствии в интертекстуальных играх Стругацких струи диссидентской аллюзивности, поддразнивания цензуры, довольно, впрочем, безобидного. Фамилия персонажа, появляющегося на первой же странице повести “Полдень. XXII-й век”, — Новаго, и тогда, в 1962 году, она не могла не вызывать ассоциаций с “Доктором Живаго”. В текст “Гадких лебедей” вставлена с небольшими изменениями песня Высоцкого, в те времена автора “непечатного”. Правда, сами “Гадкие лебеди” тоже остались тогда неопубликованными…
Далеко не всегда можно и нужно выяснять функциональное назначение той или иной цитаты или литературной аллюзии в этих текстах. Чаще всего, особенно в ранних произведениях братьев, цитатность и аллюзивность существуют просто “для души”, как признание Стругацких в любви к хорошей литературе. Однако на этом первичном уровне “книжности”, как на фундаменте, постепенно начинают вырастать гораздо более сложные и интересные конструкции. И связаны они с острым ощущением Стругацкими особой, текстовой природы мира, порождаемого их воображением.
Мало найдется не только фантастов, но и авторов, принадлежащих к литературному “мейнстриму”, у которых тема книги, текста, письма, тема писательского труда и в житейском, и в чисто “технологическом” его аспектах занимала бы такое же место, как у Стругацких. И здесь неявная, интуитивно нащупываемая ими “магия текста” сочетается с острой литературной саморефлексией, с обнажением и осмыслением приемов построения альтернативных словесных миров. Уже в “Понедельнике” мы встречаемся с “заколдованной книгой”, и это волшебство становится ключом ко всей невероятной реальности города Соловца. Книга, лежащая на подоконнике в Избнакурнож, куда определили на постой инженера-компьютерщика Сашу Привалова (“простодушного”), оказывается всякий раз, когда ее раскрывают, другой книгой. Сначала это “Хмурое утро” Aлексея Толстого. В следующий раз это сочинение П. И. Карпова “Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники”. Затем том оборачивается последовательно “Раскрытием преступлений” А. Свенсона и О. Венделя и “Последним изгнанником” Дж. Олдриджа.
А в третьей части “Понедельника” авторы декларируют — пусть и в юмористической аранжировке — весьма важный принцип: литературный текст — не продолжение или отражение обыденной действительности, но особая реальность со своим онтологическим статусом. “Оказывается, кроме нашего привычного мира с метрикой Римана, принципом неопределенности, физическим вакуумом и пьяницей Брутом существуют и другие миры, обладающие ярко выраженной реальностью. Это миры, созданные творческим воображением за всю историю человечества. Например, существуют: мир космологических представлений человечества; мир, созданный живописцами, и даже полуабстрактный мир, сконструированный поколениями композиторов… Реально существует мир, в котором живут и действуют Анна Каренина, Дон-Кихот, Шерлок Холмc, Григорий Мелехов и даже капитан Немо”. Герой повести отправляется в путешествие на “машине времени для передвижений во временных пространствах, сконструированных искусственно”, или, проще говоря, в мир материализованного литературного вымысла. Там он сталкивается с различными смешными стереотипами и казусами; к примеру, в этом мире попадаются люди, в туалетах которых отсутствуют существенные детали. На первый взгляд, это упрек авторам в недостаточной живости и детальности изображения. Но, помилуйте, кто же в XX веке будет описывать подробности одеяния своих героев, скрупулезно заботясь об их полноте, дабы в прорехах и лакунах не сверкнула нагота? Занимаясь буквальной материализацией литературных описаний, Стругацкие просто подчеркивают фундаментальный факт нетождественности словесного изображения вещественному объекту. Одновременно полушутливо постулируется весьма серьезное допущение: альтернативные литературные миры со своим типом реальности существуют.
Литературоцентричность прозы Стругацких проявляется и в очень частом обращении авторов к героям-литераторам, в размышлениях над писательской судьбой и писанием как процессом. Это — одна из главных тем “Гадких лебедей”. Виктор Банев, герой романа, — одновременно суровый критик рода “хомо сапиенс”, со всеми его скандальными слабостями и скабрезностями, и законнейший его представитель-выразитель, плоть от плоти. Писательству как судьбе, как экзистенциальному выбору посвящена и повесть Стругацких “Хромая судьба”. Далеко не случайно оба эти произведения позже были объединены в одно. Общая для них оппозиция “жизнь как она есть — творчество” послужила тут скрепляющим стержнем, а результатом этого скрещивания стали весьма тонкие и интересные эффекты, речь о которых впереди.
Вернемся, однако, к мотиву книги в текстах Стругацких. Мотив этот звучит не только в таких явных и бесхитростных формах, как в “Понедельнике”. Обратим внимание на рано проявившуюся склонность авторов к нелинейным, усложненным композиционным построениям, к неоднородности текста. В произведении молодых Стругацких “Трудно быть богом” основное повествование, как помним, имеет обрамление: пролог и эпилог на Земле. В прологе юные герои увлеченно и беззаботно играют “в Арканар”, используя географию, топонимику, историю этого далекого и иного мира. Вопрос: откуда ребята знают все эти реалии? Конечно, этому можно найти рациональное обоснование, правда, громоздкое и малоубедительное. Мол, земляне с давних пор ведут наблюдение за жизнью Арканара, и со временем элементы арканарской реальности стали частью земного фольклора, глубоко проникли в сознание землян. Но можно дать и другое объяснение, гораздо лучше отвечающее самому духу фантастической литературы. Арканар — не более чем воображаемая реальность, соткавшаяся из детской игры, детской мечты об ином, запредельном. Все события основного сюжета происходят не “взаправду”, а являются экстраполяцией выдумки, мысленной и словесной конструкцией.
Что, слишком заковыристо? Помилуйте, но ведь все мы прекрасно понимаем, что никакого Арканара в реальности, вещественности нашего мира не существует, что он — порождение воображения братьев Стругацких. Почему с этим фактом нам легко примириться, а с предыдущим допущением — трудно? Ведь онтологический статус изображаемого в обоих случаях остается одним и тем же: вымысел, словесная конструкция. Или не совсем одним и тем же? Арканар как воплотившаяся игра воображения персонажей книги — это уже вымысел второго порядка, “текст в тексте”.
Вот мы и подходим к центральному моменту этой статьи. Отношение самого писателя, читателей, персонажей книги к текстовой природе произведения, степень осознанности этой особой природы — важная характеристика прозы, особенно современной. В сущности, вся литература XX века делится на две категории. Большинство книг вступают с читателем в “заговор умолчания” относительно своей сочиненности, своего “несуществования” в том смысле, в каком существуют материальные объекты: стулья, деревья, утюги, даже люди. Они побуждают читателя забыть об этом фундаментальном обстоятельстве, поддаться иллюзии “погружения” и “соучастия”, отдаться непосредственному потоку сопереживания. Среди авторов этого направления — бульшая часть “великих”, как реалистов, так и модернистов.
Но есть литература и другого рода. Она не только не скрывает своей “призрачности”, иноприродности, но постоянно подчеркивает ее, и вместе с тем приглашает читателя к размышлению над всеми удивительными, фантастичными следствиями, вытекающими из этого столь тривиального на первый взгляд факта. Сочинение текста равносильно сотворению мира, конгениально ему. Правда, наш привычный мир — трехмерный, субъект-oбъектный, обремененный гравитацией, инерцией и принципом исключенного третьего — никто не творил самовольно и вдохновенно. Этот мир возник в тяжких родах после слепого совокупления Случайности и Необходимости, он вытащил сам себя за волосы из хтонического хаоса предбытия, он уныло линеен и однонаправлен, не знает вариантов, разветвлений, сослагательного наклонения.
Мир, создаваемый писательским воображением, по определению и по природе своей сродни фантастике. Это — царство игры и свободы, царство “как если бы”. Здесь с легкостью производятся те самые операции и превращения, которые даже в научно-фантастических сочинениях требуют громоздкого оправдательно-объяснительного аппарата и антуража. Перемещения в пространстве воображения обходятся без субсветовых скоростей и фотонных двигателей, для скачков во времени не нужны машины времени. Для попадания в борхесовский Тлен незачем долго и нудно лететь в ракете, а борхесовский же “сад расходящихся тропинок” не нуждается в ссылках на неэвклидову геометрию и теорему Геделя. Миры, самые удивительные и причудливые, роятся в незримых и бесчисленных измерениях воображения. Фантастика как жанр актуализирует главную проблему литературы вообще: как заставить читателя поверить в существование несуществующего, пользуясь только инструментами языка. К тому же сам процесс рассказывания, выстраивания литературного дискурса таит в себе богатые эстетические и фантастические возможности.
И многие авторы в XX веке не только осознали это, но и взяли на вооружение стратегию саморефлексии текста. Имя Борхеса здесь уже прозвучало. Но кроме него Жид и Набоков, Кортасар и Маркес, Воннегут и Джон Барт, Кальвино и Роб-Грийе создавали изощренные экспериментальные построения, в которых обнажение и подчеркивание словесной, фиктивной природы книги открывает новые смысловые планы, порождает парадоксальные коллизии при встрече текстов с читательским сознанием.
Взять, хотя бы, такую распространенную и нехитрую конструкцию, как “текст в тексте”. Этот прием способен не просто высветить сочиненность, вымышленность литературного произведения, но и заострить взаимоотношение “реальность — вымысел”, “жизнь — книга”, сделать само это отношение темой и сюжетом. При творческом его использовании могут возникать головокружительные ситуации: общение авторов с персонажами, переплетение текстов с действительностью, наконец, представление реальности в виде “слоеного пирога” — разных уровней текста. Книга, в которой пишется книга, рассказывающая о книге, в которой…
Это можно было бы, конечно, объявить бесплодным штукарством и шарлатанством, если бы подобные процедуры не подводили к самым фундаментальным онтологическим коллизиям, не воплощали их в самых драматичных формах. Чем докажете более высокий статус реальности материального объекта перед словесным образом, перед мысленной конструкцией? Что возразите против представления о дискурсивной, фикциональной природе реальности, в которую мы погружены? От идеи, будто книга — иной, альтернативный, но существующий мир, недалеко до концепции, согласно которой весь человеческий опыт фикционален, ибо организован, выстроен по модели дискурса, соединяет логику, фантазию и правила построения нарратива — литературного повествования. Людям ведь свойственно относиться к собственной жизни как к роману — с завязкой, фабулой, главными и второстепенными героями, кульминацией и финалом.
Я вовсе не утверждаю, что все эти соображения присутствовали в сознании братьев Стругацких, когда они писали свои книги. Но они явно тяготели, пусть интуитивно, к этой зыбкой и заманчивой сфере, к магнетической магии текста. Они не хотели писать о необычном и небывалом расхожим языком банальной беллетристики, с помощью линейных повествовательных приемов, заставляя текст мимикрировать под жизнь, будь то обыденную или аномальную.
Зачем в “Улитке на склоне” переплетены две разные сюжетные линии? Правильно, традиционный ответ — чтобы показать лес с разных изобразительных точек, снаружи и изнутри. Но наряду с этим смена “точек зрения” подчеркивает сложносочиненный характер истории, ее условность и вымышленность — какими бы точными деталями и описаниями эта история ни инкрустировалась. Две линии создают повествовательное напряжение надсмыслового уровня, они заставляют читателя ощутить фактуру текстовости, неявным образом демонстрируют работу приемов и механизмов повествования.
Кроме того, и в содержательном плане “Улитки” присутствуют моменты, отсылающие к неоднозначной природе действительности, к возможности “разных реальностей”. Многие сцены и эпизоды обеих линий повести имеют зыбкий онтологический статус: то ли явь, то ли сон, то ли действительные события, то ли бред, а может быть, и вовсе литературная условность, обнаженный и не подлежащий интерпретации прием. Кстати, сон внутри литературного текста — это, зачастую, метафора, или знак другого текста, или другого слоя реальности.
Другие материалы: