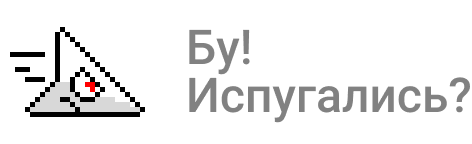Поздравьте! Этот рассказ выиграл "Сезонку" за май на сайте издательства Alterlit. Если вы пишете, то добро пожаловать на Alterlit за денежными призами и доброжелательными читателями.
Шумная и бурлящая по ночам Большая Дмитровка была пустынна. Ни выстроившихся вдоль улицы щеголеватых «лихачей», ни задорных «голубчиков». Прогуливался, заложив руки за спину усатый грузный городовой, да, оживлённо болтая, спешила тройка студентов.
Швейцар скользнул взглядом по визитной карточке, и бесстрастное лицо его озарилось улыбкой.
- К Павлу Михайловичу? Секундочку-с.
Неслышно подошёл лакей, принявший шляпу и проводивший через просторный зал Купеческого Клуба к отдельному кабинету.
- Как прикажете доложить? – шепнул, замерев у порога.
- Николай Иванович Крамской.
Постучав, слуга заглянул внутрь кабинета и тотчас вынырнул наружу, с поклоном отворив дверь.
Павел Михайлович Третьяков, худой длинноносый мужчина с русой бородой, привстал из за стола, заваленного бумагами, приветствуя гостя. Указал рукой на стул напротив, приглашая присесть.
- Прошу великодушно простить, что пригласил в клуб, а не явился сам, - заговори он, - но, поверьте, совсем не имею времени. Посчитал, что как старый знакомый, не обидитесь.
- Какие, право, могут быть извинения? – немедленно откликнулся Крамской. – Всегда в вашем распоряжении.
- Желаете отобедать? Нет? В таком случае, позвольте, перейти сразу к делу.
Третьяков на мгновение задумался, оглаживая бороду. На манжете белоснежной рубашки вспыхнула бриллиантовая запонка.
- Как вы, может быть, слышали, я последние несколько лет увлечён созданием галереи «лиц дорогих нации». Иначе говоря, портретами современных писателей, чей вклад в отечественную литературу, на века останется в памяти потомков. В коллекции будут Тургенев, Достоевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин.
- Попросит рекомендовать кого? – согласно кивая, заволновался Крамской. – А, вдруг, предложит написать мне? Кого же? Гончарова? Островского? Лескова?
- Слышал, вы знакомы с Толстым, - внезапно сказал Третьяков.
- Мы представлены друг другу, - Николай Иванович, постарался скрыть ликование, и говорить как можно увереннее. – Даже получил от графа весьма доброжелательное письмо.
- В таком случае, поручаю вам написать портрет графа.
- Почту за честь, - едва сдерживаясь, чтобы не пуститься в пляс, ответил Крамской.
Третьяков внимательно посмотрел на художника.
- Однако считаю необходимым предупредить, что Толстой категорически отказывается от создания каких-либо своих изображений. Даже согласившись на фотографический снимок, требует немедленного уничтожения пластины. Капризен и неуступчив яснополянский гений.
- Но, надеюсь, вам-то не откажет? – занервничал Крамской.
- Отказал трижды. Поверьте, пришлось приложить немало усилий, но безрезультатно. Обращался даже за помощью к Фету, с которым дружен Лев Николаевич. Увы, напрасно.
- Боюсь, что в таком случае.., - загрустил Крамской.
- Вы знаете, я никогда не плачу лишнего, - перебил Третьяков, выкладывая на стол конверт, – но, на этот раз, утрою гонорар. Вот аванс. Если, несмотря на просьбы, Толстой откажется позировать, можете не возвращать.
- Берусь, - поспешно ответил Крамской.
В Ясной Поляне Иван Николаевич был встречен с таким искренним радушием, что невольно усомнился в слухах о суровости «великого затворника». Гостеприимство Софьи Андреевны не имело границ, а сам Лев Николаевич оказался столь тонким ценителем живописи, что Крамской получал искреннее удовольствие в беседах с ним.
- Признайтесь, - спросил за вечерним чаем граф, - сколько времени вы писали «Христа в пустыне»?
- Так и дОлжно быть. Именно всю жизнь, - прижал руки к груди Лев Николаевич.
- Он мой, - облегчённо выдохнул про себя Крамской.
Каково же было удивление Ивана Николаевича, когда на следующий день художник, изложив истинную цель визита, получил категорический отказ.
- Вынужден отказать, - посуровел Толстой. – И прошу больше не возвращаться к этой теме.
- Нахожу в заказе собственного портрета одну из величайших угроз для творчества. Гордыню и самолюбование.
- Но, Лев Николаевич, картина будет написана для галереи г-на Третьякова. Множество, обожающих вас людей и, не имеющих счастье увидеть лично, наконец, смогут лицезреть изображение величайшего из современников.
- Тем более, не хочу, - нахмурился Толстой.
Однако Крамской не думал сдаваться.
За обедом, заведя разговор о любимом графом Шиллере, вскользь упомянул, что благодаря написанному при жизни портрету, потомки сегодня могут взглянуть на прославленного поэта и философа.
Вечером, на прогулке, зная о натянутых отношениях Толстого с Тургеневым, как-бы случайно вспомнил, что Иван Сергеевич сейчас в Париже позирует Илье Репину.
Едко высмеял Кирилла Горбунова, написавшего Лермонтова «по памяти». Пустился в рассуждения о ничтожности фотографии в передаче внутреннего мира.
Ночью, Крамского, мучимого бессонницей, внезапно озарило.
- Не гневайтесь, - обратился он наутро к сидящему в саду Толстому, - но вынужден привести последний, пусть и неприятный довод.
- К вашим услугам, - ответил граф, с треском откусывая яблоко.
- Увы, люди смертны. Никто не знает, сколько лет кому отмеряно. Может быть, пройдёт тридцать, сорок, пятьдесят лет и вас не станет. И вот тогда десятки живописцев возьмутся писать портреты величайшего из писателей. По сохранившимся фотографическим карточкам, по воспоминаниям знакомых, по чьим-нибудь бездарным наброскам. Подумайте, кто явится миру на этих чудовищных работах, вы или некая карикатура? Неужели таким увидят графа Толстого будущие читатели?
- Лёвушка, - неслышно подошла Софья Андреевна, - боюсь, что Иван Николаевич прав.
- Я подумаю, - наконец сказал Толстой, вставая.
- Согласится, - прошептала на ухо Крамскому Софья Андреевна.
Прошло несколько томительных дней ожидания, прежде чем граф пригласил Ивана Николаевича в рабочий кабинет.
- Во-первых, - принялся загибать пальцы Толстой, - если портрет не понравится, то будет незамедлительно уничтожен.
- Конечно же, - покорно согласился Крамской.
- Во-вторых, позировать стану не более трёх раз.
- Этого вполне достаточно.
- И в-третьих, картина останется у меня, а Третьякову сделаете копию.
Последнего Иван Николаевич никак не ожидал.
- Боюсь, что г-н Третьяков потребует оригинал, - занервничал он.
- Его желания мне безразличны, - насупился Толстой. И, понимая, что последняя фраза прозвучала довольно резко, добавил, - настоятельно прошу не воспринимать эти требования на свой счёт.
Крамской немедленно телеграфировал в Москву, написав, что граф согласен позировать для портрета, но с некоторым условием.
Ожидать ответа пришлось долго. За это время Иван Николаевич буквально извёл прислугу, ежечасно интересуясь, нет ли для него почты. Получив, наконец, ответную телеграмму, нетерпеливо развернул и, не сдерживая ярости, в клочки изорвал бланк с единственным словом «Нет». Сбежал с крыльца и, подобрав на дворе палку, бросился за конюшню, где принялся остервенело рубить заросли крапивы. Там его и озарило.
Дождавшись вечернего чая, после которого семейство Толстых село играть в «подкидного», он обратился к графу.
- Лев Николаевич, а что если напишу два портрета? Одновременно буду работать на двух холстах. Выберете понравившийся, а другой уедет к г-ну Третьякову.
- Продолжайте, - отложил карты Толстой.
- Бесспорно, они будут схожи, но один не станет копией другого, - и тут же добавил. – Свой портрет получите от меня в подарок.
- Замечательно, - захлопала в ладоши Софья Андреевна.
- Подумаю, - кивнул граф.
Размышлял Лев Николаевич неделю. Крамской первые дни ходил на этюды, но вскоре забросил и просто лежал в комнате на диване, куря папиросу за папиросой. Чёрт возьми, требовалось только согласие Толстого, а позирование стало уже не так важно. За время проведённое в Ясной Поляне, черты графа настолько отпечатались в памяти, что и через десять лет он, не задумываясь, написал бы портрет.
И всё же свершилось! Сентябрьским, чуть тронутым запахом дозревающей антоновки, утром горничная доложила - « барин ждёт, чтоб картину рисовать».
Работал Крамской без малого месяц. Писал, не лукавя и не задумываясь, понравится ли графу завораживающий волчий взгляд двойника. Пугающий, но, в то же время, таящий в себе некую боль. Не стал уменьшать и непомерно большие уши.
- Нарядить в арестантские лохмотья, да в острог, - бормотал вполголоса, разглядывая портрет.
Собирался было править, но останавливался, - Вот, только он и на каторге будет первым из прочих.
Сказать по правде, граф на картине казался куда больше Толстым, чем тот, который сейчас пил кофе в беседке. Живой Лев Николаевич выглядел беспечным, читавшим Вольтера, и оттого в меру либеральным, русским барином. Нарисованный же, излучал неподдельную ярость и волю, умело скрываемые недюжинной силы рассудком.
Шли дни, а Крамской не решался представить графу готовые портреты.
Этой ночью его разбудил яркий свет. Рядом с кроватью, держа керосиновую лампу, сидел на корточках Толстой в ночной рубахе.
- Иван Николаевич, - сказал он, - каюсь, не утерпел и посмотрел картины. Вы, дорогой мой, превзошли всех и самого себя.
- Не представляете, как приятно это слышать, - приподнялся на локте Крамской.
- И надеюсь, - продолжал граф, - со временем поймёте и простите мой поступок.
- После этих портретов вы не должны больше никого писать.
- Помилуйте, Лев Николаевич. Но это моё призвание. Хлеб насущный, в конце концов.
- Не должны и не сможете.
Толстой поставил лампу на пол. Шагнул к Крамскому, и тот с ужасом увидел зажатое в кулаке графа сапожное шило, нацеленное ему в глаз.
- Караул! – завизжал Иван Николаевич, просыпаясь от собственного крика.
Вскочив, Крамской забегал по комнате, пытаясь унять дрожь. Распахнув, по пояс высунулся в окно, жадно глотая влажный октябрьский воздух.
И решил, далее не откладывая, сегодня же показать работы Толстому.
Граф уже четверть часа молча стоял перед портретами, заложив руки за спину. Иногда начинал раскачиваться с носка на пятку, но так же, не говоря ни слова. Крамской, ожидавший чего угодно, но только не этого тягостного молчания, был близок к обмороку.
- Что ж, Соня, - обернулся Толстой к супруге, - случилось то, что я и предполагал. Иван Николаевич усерднейшим образом выказывал дружбу, а как дошло дело до работы, взял и огорошил. Всё вытащил наружу. И мою непомерную гордыню, и жажду признания, и тяжёлый характер.
Гостиная поплыла у Крамского перед глазами и он, чтобы не упасть, привалился спиной к стене.
- А уши могли бы немого уменьшить, - неожиданно подмигнул Лев Николаевич. И обнял опешившего художника.
- C'est incroyable (Это невероятно). Incroyable, - повторяла Софья Андреевна, вытирая платком слёзы.
- Очень рад, - лепетал в объятиях Толстого Иван Николаевич, чувствуя, что сейчас тоже разрыдается.
- Борюсь с желанием, - зашептал на ухо Крамскому граф, - оставить оба портрета у себя.
- Помилосердствуйте, - застонал художник.
- Знаю, - наконец разжал объятия Толстой. – Уговор дороже денег. Но, который выбрать?
Он закружил по гостиной, рассматривая холсты то с одного, то с другого бока. Наклонял голову, прищуривался, порой подходил совсем вплотную.
- Поставлю у себя в кабинете, - решил граф. – Ответ дам завтра.
И забрав оба портрета, ушёл.
Утром к завтраку Лев Николаевич не вышел. Пропустил и обед. На осторожный вопрос Крамского, «Здоров ли граф?», Софья Андреевна лишь развела руками.
- Заперся и пишет. Видимо ваши работы придали мужу новых сил.
Иван Николаевич понимающе кивнул. Подумал, что однажды в светской беседе можно будет упомянуть, как его картины побудили Толстого взяться за новый роман.
Потянулись бесконечные недели. Изредка граф, покинув рабочий кабинет, сталкивался с Крамским, но погружённый в свои мысли, не узнавал художника. Как-то за обедом поинтересовался, «не испытывает ли какой нужды земская больница?». В другую встречу сурово выговорил, что духовный сан не даёт Ивану Николаевичу права бесцеремонно вести себя с безутешной вдовой.
- Наберитесь терпения, - вздыхала графиня. – Однажды творческий пыл иссякнет, и Лев Николаевич вернётся.
Когда выпал первый снег, Крамской повалился в ноги Софье Андреевне.
- Заклинаю, сделайте что-нибудь, - молил он. – Оставить всё и уехать не могу. Ожидание же, сводит с ума. Вчера, ложась спать, я начал всерьёз задумываться о самоубийстве.
- Хорошо, - побледнела та. – Ступайте, собирайте вещи и будьте готовы отправиться домой.
Крамской, ни слова не говоря, направился в свою комнату.
Через час в дверь постучали. На пороге, держа свёрток, стояла Софья Андреевна.
- Вот портрет для г-на Третьякова, - сообщила она. - Внизу ждёт повозка, которая отвезёт вас на станцию.
- Толстой сделал выбор? – не веря счастью, спросил Крамской.
- Увы, - грустно улыбнулась графиня. – Зайдя в кабинет, я забрала ближайший из стоящих портретов.
- Пишет. Даже не повернул головы.
- Но, что будет, когда обнаружится пропажа?
- Скажу, что собственноручно отдал.
Крамской рухнул на колени и поцеловал руку Софье Андреевне.
Третьяков принял Ивана Николаевича в том же кабинете Купеческого Клуба.
Установив портрет на стул, сделал несколько шагов назад. Застыл, скрестив руки на груди.
- Отрадно, что не ошибся, в выборе художника, - вымолвил после долгой паузы. – Я, как знаете, скуп на похвалы, но это поистине шедевр. Скажу больше – фундаментальная работа.
Третьяков, присел к столу, и, быстро подписав чек, передал Крамскому. Тот безразлично, даже не взглянув на сумму, опустил листок в карман.
- И вот, что мне сейчас пришло в голову, - откинулся на стуле Третьяков. – Раз уж вы так сдружились с графом, напишите-ка ещё три-четыре портрета. Толстой за письменным столом. Толстой, погружённый в раздумья. Может быть и ростовой портрет. Готов выдать аванс немедленно. Что скажете, заманчиво?
- Дозвольте, на минуту отлучиться, - ответил Крамской и, развернувшись на каблуках, вышел.
У дверей Клуба принял от лакея пальто. Не спеша спустился по ступеням на улицу. Простоял с закрытыми глазами и, вдруг, оскальзываясь на льду и нелепо взмахивая руками, бросился бежать прочь.