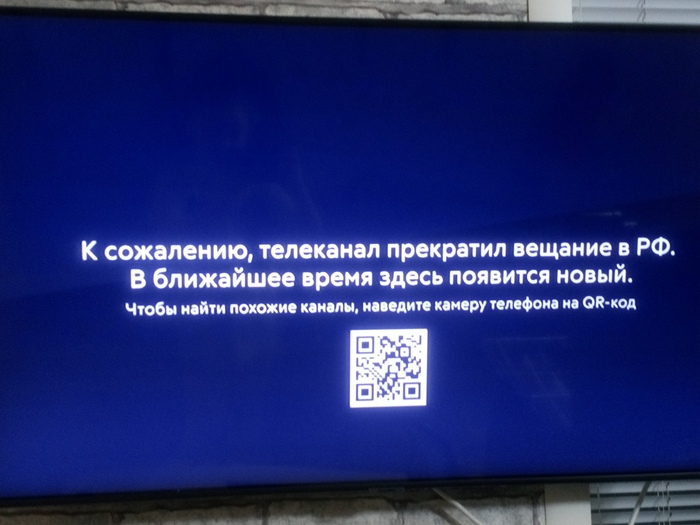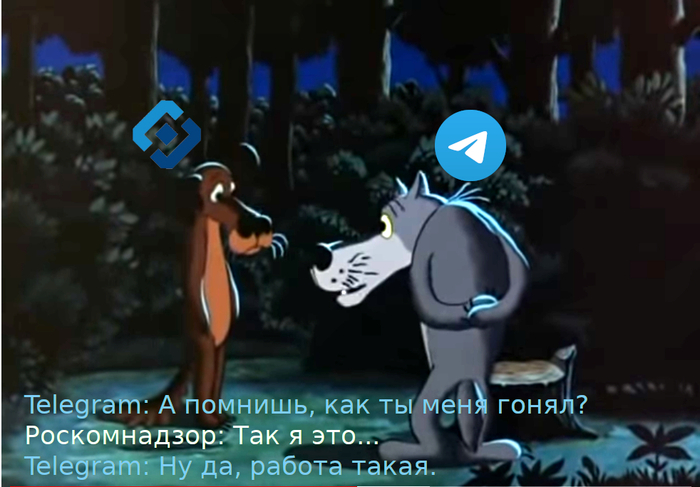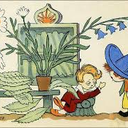Автор: Алкэ Моринэко.
Мурьк! Давайте чуток поговорим о сакрализации языка в религии и о том, до какого безумия можно докатиться, если в этом переусердствовать. В основном на примере Японии, конечно. Но начнём издалека. И не про Японию.
Если вы когда-нибудь бывали в церкви на православном богослужении, то наверняка обратили внимание, что язык, на котором ведётся служба, мягко скажем… малопонятен. Связано это не только с тем, что церковнославянский основан на южнославянских языках — поскольку именно южные славяне первые приобщились к христианской культуре, — но и с тем, что прихожанам вовсе не обязательно было его понимать. Это был именно литературный язык, сугубо для религиозных и научных нужд того времени. В обиходе на нём никогда не изъяснялись.
Но для восточных славян (русских, белорусов и украинцев) церковнославянский хотя бы не совсем чуждый язык. И если прислушаться, можно худо-бедно разобрать смысл сказанного. Японии с приходом буддизма (который там исполнял роль христианства для Руси) повезло куда меньше. Ибо вместе с буддизмом пришёл санскрит, так как на нём были написаны священные буддийские тексты-сутры, песнопения-дхарани и заклинания-мантры.
Японский язык оказался практически не приспособлен для передачи санскрита. Нет, понятно, что, раз уж буддизм попал туда через Китай, то многое было переведено на китайский язык, а китайский знали все образованные японцы того времени. Однако некоторые вещи оказались принципиально непереводимы (например, мантры) и для их использования требовалось всё-таки знание санскрита.
Как говорится, санскрит знали не только лишь все... Даже классическое китайское образование тут не помогало — если с Китаем Японию объединяла хотя бы иероглифическая письменность, то Индия со своим санскритом находилась слишком далеко во всех смыслах. Обучить такой языколомной премудрости достаточное количество священнослужителей не представлялось возможным, поэтому знатоки поступили проще и породили лингвистическое чудовище под условным названием «японский санскрит». Это когда санскритские слова записаны в японском произношении. Все, кто когда-либо сталкивался с «японским английским» поймут весь ужас происходящего. Например, возьмём мантру восхваления бодхисаттвы Кшитигарбхи (яп. Дзидзо:-босацу) и вот что получалось:
Санскрит: Ом Ха Ха Ха Висмае Сваха
Япосанскрит: Он Ка Ка Ка Бисаммаэй Совака
Скажете, что вполне похоже? Что ж, это зависело от школы буддизма, которая занималась такой вот… транслитерацией. Например, санскритское слово джвала (пламя) школа Сингон передала как дзимбара, а вот школа Дзэн — сифура. Не спрашивайте. Я не знаю. И, вероятно, никто не знает. Некоторые тексты искажены так сильно, что реконструировать их изначальный санскритский вариант попросту не удаётся.
Всё это привело к тому, что для простого японца буддийское богослужение стало абсолютной тарабарщиной, что только усиливало его благоговейный трепет. Смысл текстов и песнопений перестал иметь какое-то значение и на первый план вышла ценность звуков и физическая их запись. Например, одной из религиозных практик школы Тэндай было переписывание и чтение на санскрите «Сутры Лотоса». Сама сутра была переведена и вполне доступна для чтения на китайском, но для того, чтобы очистить карму и обеспечить себе будущее просветление, считалось вполне достаточным просто переписывать и читать, не вникая в то, что там написано. Священной и могущественной была сама сутра.
Надо сказать, что такой пиетет к оригиналам был не только у японских буддистов. Так первые славянские переписчики-переводчики христианских молитв и песнопений, настолько благоговели перед греческим исходниками, что зачастую переводили подстрочником, не заботясь об особой связности того, что вышло. То же было и гораздо раньше. Например, историк Ю. Б. Циркин утверждал, что для Рима времён царей сохранение старинного текста, даже уже непонятного, имело большое ритуальное значение.
Человечество влюблено в свою речь и её запись. Едва научившись членораздельно болтать и осознав потенциальные социальные возможности этого дара эволюции, люди тут же принялись делить разговор на бытовой и религиозный. Ибо никак не возможно одним и тем же языком ругать ближнего своего и прославлять высшие силы. Более того, чем труднее профану проникнуть в таинства «священной речи» во всех её проявлениях, тем действенней она будет. Высшие силы таинственны и непонятны и с ними нужно говорить на таком же таинственном и непонятном языке. До сих пор у нас осталось это подспудное доверие к «умным» = непонятным словам и таинственным символам. Нам кажется, что за этим скрывается некое чудесное знание, мудрость и опыт, способные перевернуть жизнь к лучшему.
Автор: Алкэ Моринэко (@AlkeMorineko).
Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_412194
Пост с навигацией по Коту
Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!