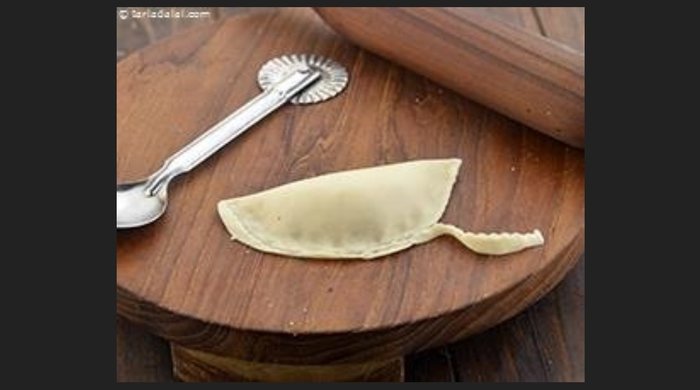Борис Гройс «Коммунистический постскриптум»
Медиумом экономики являются деньги. Экономика оперирует цифрами. Медиумом политики является язык. Политика оперирует словами – аргументами, программами и резолюциями, а также приказами, запретами, инструкциями и распоряжениями. Коммунистическая революция представляет собой перевод общества с медиума денег на медиум языка. Она осуществляет подлинный поворот к языку (linguistic turn) на уровне общественной практики. Ей недостаточно определить человека как говорящего, как это обычно делает новейшая философия (при всех тонкостях и различиях, характеризующих отдельные философские позиции). Пока человек оперирует в условиях капиталистической экономики, он, по большому счету, остается немым, поскольку его судьба с ним не говорит. А поскольку человек не слышит обращенного к нему лично голоса судьбы, он в свою очередь не может ей ничего ответить. Экономические процессы имеют анонимный и невербальный характер. С ними не поспоришь, их нельзя переубедить, переговорить, склонить словами на свою сторону – можно лишь приспособиться к ним, приведя в соответствие с ними свое поведение. Экономический провал невозможно опровергнуть никакой аргументацией, а экономический успех не требует дополнительного дискурсивного обоснования. При капитализме окончательное оправдание или осуждение человеческих действий носит не вербальный, а экономический характер и выражается не в словах, а в цифрах. В итоге язык оказывается не у дел.
Только в том случае, если судьба обретает голос, если она не сводится к чисто экономическим процессам, а изначально формулируется вербально и определяется политически, как это происходит при коммунизме, человек действительно начинает существовать в языке и посредством языка. Тем самым он получает возможность оспаривать, опротестовывать, опровергать судьбоносные решения. Такие опровержения и протесты не всегда эффективны. Часто они игнорируются или даже подавляются властью, но это не делает их бессмысленными. Протестовать против политических решений, прибегая для этого к медиуму языка, вполне разумно логично, если сами эти решения сформулированы в том же медиуме. В условиях же капитализма любая критика и любой протест бессмысленны в принципе. При капитализме язык функционирует всего лишь как товар, что с самого начала делает его немым. Дискурс критики или протеста считается успешным, если он хорошо продается, – и неудачным, если он продается плохо
Исторически Советский Союз так далеко продвинулся в реализации коммунистического проекта, как никакое другое общество до него. В тридцатые годы здесь была отменена любая частная собственность. В итоге политическое руководство страны получило возможность принимать решения, не зависящие от частных экономических интересов. Не то что бы эти интересы были оттеснены на второй план – их теперь попросту не существовало. Каждый гражданин Советского Союза состоял на государственной службе, жил в государственной квартире, делал покупки в государственных магазинах и ездил на место своей государственной работы на государственном транспорте. Какие экономические интересы мог иметь этот гражданин? Его интерес состоял лишь в том, чтобы дела этого государства шли как можно лучше и с ростом государственного благосостояния росло бы его собственное благосостояние – легально или нелегально, благодаря упорному труду или за счет коррупции.
Таким образом, в Советском Союзе имело место фундаментальное тождество личных и общественных интересов. Единственное внешнее ограничение носило военный характер: Советский Союз должен был обороняться от своих врагов. Но уже в шестидесятые годы военный потенциал страны был так велик, что возможность вторжения извне можно было отнести к разряду невероятных. С этого времени советское руководство не вступало ни в какие «объективные» конфликты – ни с внутренней оппозицией, которой просто не существовало, ни с внешними силами, которые могли бы как-то ограничить его административную власть в стране. Так что в своих практических решениях оно могло позволить себе полагаться лишь на собственный политический разум и внутренние убеждения. Конечно, поскольку его политический разум был диалектическим, то в один прекрасный день он привел это руководство к решению отменить коммунизм. Однако эта отмена не означает, что коммунизм в Советском Союзе так и не был реализован. Напротив, как будет показано далее, только это решение сделало реализацию, воплощение, инкарнацию коммунизма полными и окончательными.
В любом случае, сказать, что Советский Союз потерпел экономический крах, нельзя, поскольку такой крах может произойти только в пространстве рынка. Но рынка в Советском Союзе не существовало. Следовательно, экономический успех или неудача политического руководства не могли быть установлены «объективными», то есть нейтральными, внеидеологическими, методами
В западной философской традиции язык впервые приобрел значение медиума тотальной власти, тотального преобразования общества у Платона. В своем «Государстве» он объявил правление философов целью общественного развития. Философом Платон считал того, кто мыслит общество в его тотальности – в отличие от софиста, который репрезентирует, легитимирует и отстаивает с помощью языка частные, партикулярные интересы. Но мыслить общество как целое означает мыслить как целое его язык. Этим философия отличается от науки или искусства, которые тем или иным способом язык специализируют. Наука хочет говорить лишь непротиворечивым, логически корректным языком. Искусство предъявляет к языку эстетические требования. Философия же рассматривает язык в его тотальности. А такой подход к языку неизбежно приводит к стремлению управлять обществом, которое на нем говорит
Сила убеждения, которой проникнута гладкая, хорошо выстроенная речь софиста, считает Сократ, герой платоновских диалогов, ни в коем случае не подходит для такой цели. Достаточной силой принуждения обладает только логическое принуждение. Тот, кто сталкивается с логически ясной, очевидной речью, не в состоянии избежать ее воздействия. Конечно, слушатель или читатель очевидного высказывания может нарочно воспротивиться его принудительному воздействию, чтобы этим сопротивлением отстоять свою внутреннюю, абсолютную, субъективную свободу по отношению к любому внешнему принуждению, включая логическое принуждение, но при этом он, как говорят в таких случаях, «сам не верит» в это отрицание. В итоге тот, кто не признает логическую очевидность как таковую, внутренне расколот и потому уязвим по сравнению с тем, кто ее признает и принимает. Признание логической очевидности является источником силы, тогда как ее отрицание – источником слабости. В этом, с точки зрения классической философии, проявляется сила разума, способного одной лишь силой языка, силой логики, силой логического принуждения внутренне обезоружить врагов разума, отрицающих очевидное, – и в конце концов одержать над ними победу.
Однако возникает вопрос: как, какими методами создается эта логическая очевидность. Можно предположить, что речь становится очевидной, когда в ней нет внутренних противоречий, когда она когерентна и последовательна в своих доводах. Моделью такого рода очевидности обычно служит математика. Действительно, сталкиваясь с высказыванием типа «a + b = b + a», мы едва ли можем уклониться от его ясности и очевидности. Но какой логической очевидностью может обладать политическая аргументация, которая не апеллирует к математическим аксиомам и теоремам, а пытается показать, что для государства хорошо, а что плохо? Сначала может показаться, что для Платона критерием логически корректной, убедительной речи также служит ее когерентность, то есть внутренняя непротиворечивость. Как только Сократ диагностирует внутреннее противоречие в словах своего собеседника, он тут же дисквалифицирует его речь как неясную, неочевидную, а самого говорящего разоблачает как непригодного к справедливому отправлению государственной власти. Своими вопросами Сократ разламывает гладкую, блестящую оболочку софистической речи и выявляет ее противоречивое, парадоксальное ядро. Он показывает, что эта речь только внешне кажется последовательной и когерентной, но по своей внутренней, логической структуре она парадоксальна и, следовательно, бессвязна и темна. Поэтому речи софистов следует считать не манифестациями ясной, прозрачной мысли, а всего лишь товарами на рынке мнений. Главный упрек, который Сократ бросает софистам, гласит: «Вы сочиняете свои речи только ради денег». В этом проявляется первое назначение парадокса. Парадокс, скрывающий свою парадоксальность, становится товаром.
Но как добиться того, чтобы язык стал абсолютно очевидным, чтобы он не просто циркулировал как темный товар на рынке мнений, а служил прозрачной саморефлексии мышления? Ведь только благодаря внутренней ясности язык может приобрести силу логического принуждения, которая в состоянии управлять миром. На первый взгляд кажется очевидным, что совершенно ясная речь должна быть непротиворечивой, когерентной, логически корректной. Систематические попытки построения такой речи предпринимаются, по крайней мере, начиная с Аристотеля и по сей день. Однако внимательный читатель платоновских диалогов замечает, что продуцирование когерентной и свободной от парадоксов речи вовсе не является целью Сократа. Он довольствуется тем, что находит и демонстрирует парадоксы в высказываниях своих оппонентов. Тем самым Сократ достигает своей цели, поскольку блеск очевидности, возникающий в результате выявления скрытого под оболочкой софистической речи парадокса, настолько интенсивен, что буквально завораживает слушателей и читателей платоновских диалогов и долгое время их не отпускает. Стало быть, для возникновения необходимой ясности вполне достаточно обнаружить, разоблачить, показать скрытый парадокс. Дальнейшее производство свободной от противоречий речи просто излишне. Читатель доверяет речам Сократа благодаря ясности, излучаемой теми парадоксами, которые он обнаруживает.
В свете этой очевидности Сократ получает право использовать в своей речи примеры
Лишь на поверхностный взгляд Сократ диагностирует парадоксальность речей софистов с критическим намерением, то есть с целью очистить их от парадоксальности. На самом деле он показывает, что эта парадоксальность является неизбежным свойством речи как таковой. Подлинное мышление, если понимать под мышлением выявление внутренней, логической структуры дискурса, может охарактеризовать логическое устройство этого дискурса не иначе как самопротиворечие, как парадокс. Парадокс – это и есть логос. Впечатление непротиворечивости может вызывать только риторическая оболочка языка.
Это сократовское постижение парадоксального устройства любого дискурса, любой речи, любого мнения корреспондирует с демократическим требованием предоставления равных прав всем мнениям и дискурсам. Действительно, в условиях демократической свободы мнений
нельзя разделять мнения на «когерентные» или «истинные», с одной стороны, и «некогерентные» или «неистинные», с другой, ведь такое разделение будет дискриминирующим и антидемократическим. Оно лишит эти мнения равных шансов и нарушит их свободную и честную конкуренцию на открытом рынке мнений.
Аксиома демократического рынка мнений гласит: не существует привилегированной метафизической, метаязыковой позиции, которая позволяла бы нам различать мнения не только в зависимости от их рыночного успеха, но и по принципу их истинности, определяемой как логическая когерентность или как эмпирическая истинность. В отношении свободной циркуляции мнений можно сказать только то, что некоторые из них более популярны и пользуются бо́льшим спросом, чем другие, что еще не делает их более «истинными». Вопреки широко распространенному суждению, наиболее последовательным демократическим мыслителем, настоящим пророком свободного рынка является Ницше, так как именно он лишил «истинную речь» ее привилегированного положения и провозгласил равенство всех мнений. Попытка снова провести различие между истинными и неистинными мнениями была бы бессмысленной и к тому же реакционной. Следует, скорее, настаивать на парадоксальности любой доксы. Как показал Сократ, никто из тех, кто говорит в условиях свободы мнений, в действительности не знает, в чем его мнение состоит. Большинство полагает, что их мнения противоречат чужим мнениям и полемичны по отношению к ним, тогда как де-факто они противоречат лишь сами себе. Каждый говорящий высказывает то, что, по его мнению, является его мнением – но одновременно он высказывает и противоположное этому Внутренняя противоречивость, внутренняя парадоксальность – вот то, что в равной степени характеризует все мнения, циркулирующие на свободном рынке
Софистическая речь кажется когерентной только в силу своей односторонности, в силу того, что она обособлена от целого и прячет свою парадоксальную связь с тотальностью языка. Софист отстаивает определенную точку зрения, даже зная, что одновременно существует множество доводов в пользу другой, противоположной точки зрения. Стремясь сделать свою речь когерентной и последовательной, он использует в ней только те аргументы, которые подкрепляют представляемую им точку зрения, и не упоминает возможные контраргументы. Таким образом, софист заменяет тотальность языка тотальностью капитала. Когерентно выстроенная речь делает вид, будто следует важнейшему правилу формальной логики, правилу «tertium non datur», «третьего не дано». Но тем «третьим», которое исключается из когерентно организованного языка, становятся деньги – они начинают управлять языком как снаружи, так и (в качестве его темной сердцевины) изнутри, превращая его в товар. Столкновение позиций, каждая из которых последовательно и когерентно представляет те или иные частные, односторонние, партикулярные интересы, в конечном итоге, приводит к компромиссу. Этот компромисс необходим – только он может установить мир между спорящими партиями и сохранить целостность и единство общества. В сущности, компромисс имеет форму парадокса, так как он одновременно признает и подтверждает два отрицающих друг друга высказывания. Но, в отличие от парадокса в собственном смысле слова, компромисс формулируется не в медиуме языка, а в медиуме денег. Компромисс заключается в том, что представители каждой из противоположных точек зрения получают финансовое вознаграждение за то, что признают истину противоположной стороны. Софисты, приводившие аргументы в пользу обеих сторон, также получают финансовое вознаграждение. Следовательно, можно сказать, что в результате замены парадокса компромиссом власть над тотальностью языка переходит от языка к деньгам. Компромисс – это парадокс, оплаченный за то, что он не выглядит как парадокс
Но народ в принципе недоверчив. И особое недоверие он испытывает как раз по отношению к гладкой, хорошо выстроенной, правильной речи. Красноречием говорящего могут восхищаться, но ему не доверяют. Сократ берет на вооружение эту народную недоверчивость, обращая ее против софистов. Недаром в своих речах Сократ с неизменной похвалой отзывается о ремесленниках, например о корабельных мастерах или лекарях, которых он противопоставляет лживым софистам
Стратегия Сократа парадоксальна и в тактическом отношении: он объединяется с народом против «знающих» и со знающими – против народа, а в итоге вызывает раздражение и у тех, и у других. Но это мало заботит философа, ведь его цель – не нравиться, а направлять. Поэтому ему нужна не тьма, а свет. Философ хочет быть правителем, который завораживает, озаряет, ослепляет и управляет силой света, излучаемого открытым им парадоксом
Парадокс есть икона языка в его тотальности. Суть парадокса в том, что два противоположных высказывания мыслятся и принимаются в качестве истинных одновременно. Но тотальность языка и есть не что иное, как единство всех возможных тезисов и антитезисов – это следует уже из того, что из парадокса, по правилам формальной логики, можно вывести все возможные высказывания. Парадокс является иконой языка, поскольку открывает вид на его тотальность. Но это именно икона, а не миметическое изображение языка: парадокс не отображает уже существующую, заранее данную тотальность языка, а позволяет ей впервые получить форму. Точно так же икона как изображение Бога понимается в христианской традиции как образ без прообраза, поскольку христианский Бог невидим. Парадокс, открываемый (или скорее создаваемый) философом, – это икона логоса, очевидность которой абсолютна как раз в силу того, что не может быть затемнена сравнением с оригиналом
В последние десятилетия поиски новых блестящих парадоксов, в сущности, даже интенсифицировались, – прежде всего, во французской философии. При всех различиях между Батаем, Фуко, Лаканом, Делезом и Деррида, их объединяет одно бесспорное свойство: они говорят парадоксами, они стремятся сделать парадокс как можно более радикальным и всеобъемлющим, они противостоят любым попыткам сгладить парадокс, подчинив его условностям формально-логически корректной речи. В сущности, все перечисленные авторы принадлежат старой доброй традиции платоновской философии. Но в то же время они предстают (причем каждый на свой манер) ее диссидентами. Для них парадокс не излучает ясный свет разума, а показывает темное «другое» разума, субъекта, логоса. Парадокс, по их мнению, возникает в результате того, что язык изначально оккупирован силами желания, телесности, праздника, бессознательного, сакрального, травматического и/или в результате материальности, телесности самого языка
Однако непредубежденного наблюдателя может только удивить диагноз, согласно которому современность объявляется эпохой безраздельного и всепоглощающего господства рационального разума, опирающегося на правила формальной логики. Здесь реальные отношения власти поистине перевернуты с ног на голову. В действительности софистические, внешне разумные речи по-прежнему служат партикулярным интересам и рынку. Рациональность функционирует как своего рода дизайн языка-товара – а вовсе не как регалия власти. Тотального господства разума, системы, структуры просто не существует. Рука, управляющая рынком, как известно, невидима, так как действует в темном пространстве парадокса. Тотальность капитализма обнаруживается в медиуме денег, а не в медиуме языка, тем более языка разумного. Для того чтобы преуспеть на рынке, нужны, как известно, отнюдь не расчет, не логические рассуждения и рациональные доводы, а интуиция, маниакальная настойчивость, агрессивность, killer instinct. Следовательно, дискурс, занятый поисками темного другого разума, вовсе не оппозиционен по отношению к капитализму. Дискурс желания кажется иконоборческим, потому что он разбивает гладкую оболочку когерентной речи, так что она уже не может служить медиумом описания определенных фактов, формулировки определенных проектов, аргументации в пользу определенных точек зрения, представления определенных «воззрений». Эта критика задевает также институты, пользующиеся такой речью. Но это не институты власти. Ведь капитализм как раз и живет критикой институций, расшатыванием прочных идеологических конструкций. Он переводит убеждения в интересы и заключает компромиссы, принимающие форму парадоксов
Уже софисты казались беспринципными демоническими личностями, так как могли выдвигать одинаково убедительные аргументы в пользу взаимоисключающих точек зрения. Но особенно дьявольским выглядит капитал, способный извлекать прибыль одновременно из противоположных точек зрения. Если рабочие получают более высокую зарплату, они могут купить больше товаров – в результате прибыль возрастает. А если они получают более низкую зарплату, это позволяет сэкономить на найме рабочей силы – и прибыль опять же возрастает. В мирное время прибыль растет благодаря стабильности. Во время войны она растет благодаря новому спросу и т. д. Возникает впечатление, что капитал вовсе не анонимен, что за ним скрывается дьявольский субъект, практикующий «win-win-play» – игру, в которой он всегда выигрывает, поскольку извлекает равную выгоду из противоположных результатов. Это более глубокое подозрение нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, ведь такой субъект может быть изображен только черным по черному и потому остается невидим
Современные западные политики, одновременно призывающие и к борьбе с терроризмом и к сохранению традиционных гражданских прав, фактически оперируют парадоксом, поскольку эти цели противоречат друг другу. В таких случаях обычно говорят о политике, которая находит компромисс между двумя требованиями – призывом к бдительности и призывом к соблюдению гражданских свобод. Однако слово «компромисс» здесь неуместно. О компромиссе можно было бы говорить, если бы в обществе имелись две социальные группы, одна из которых требовала бы соблюдения свобод, включая свободу для терроризма, в то время как другая стремилась бы к ликвидации всяческих свобод включая свободу терроризма. Но совершенно очевидно, что в нашем случае таких групп нет, – а если и есть, то обе они маргинальны. Компромисс между ними просто лишен смысла. Тех, кто верит в эти логически корректные альтернативы, обычно принимают за фриков, помешанных на свободе или на бдительности, и поэтому их мнение оставляют без внимания. «Здоровое» большинство граждан, равно как и правящие политики, верят не в эти непротиворечивые альтернативы, а в парадокс – и требуют диалектической политики парадокса. Это требование вытекает из подозрения, согласно которому политика террора носит дьявольский характер и потому требует диалектического, парадоксального ответа. Предполагается, что террористы хотят ликвидировать общественный порядок, обеспечивающий права и свободы граждан. Это значит, что они выиграют при последовательной реализации любой из этих непротиворечивых альтернатив: террор достигает своей цели и в случае, если ему будет предоставлено свободное поле для активности, и в случае ликвидации гражданских свобод путем антитеррористической борьбы.
Вопрос, является ли террористический разум действительно дьявольским, на самом деле нерелевантен. Достаточно сказать, что «мотивы террористов темны», – и тут же возникнет предположение, что за террористическими актами скрывается какой-то дьявольский разум. Важно лишь то, что как только возникает темный предмет объективной паранойи, ответ на него неизбежно будет диалектическим, парадоксальным. Следовательно, подлинно политический дискурс современной эпохи далек от обычного представления о нем. Как правило, ситуация описывается таким образом, будто в контексте рационалистической современности нормальным считается только тот, кто мыслит когерентно и в соответствии с правилами формальной логики