О науке интересно
52 поста
52 поста
28 постов
Если YouTube медленно загружает — смотрите здесь.
Живёт на свете один мужчина — назовём его господином М. Днем он заезжает в магазин, покупает пачку презервативов и ультрафиолетовый фонарик для обнаружения поддельных банкнот. Под покровом темноты господин М. садится на яхту и отправляется в сторону рифов. Яхту останавливает патруль береговой охраны, проверяет документы и… патруль уплывает, а господин М. надевает акваланг и готовится к глубокому погружению. С презервативом и фонариком. Внимание, вопрос: какая профессия у нашего героя?
На самом деле господин М. — мой знакомый. Он молекулярный биолог. Детектор поддельных банкнот, защищённый от воды презервативом, нужен ему для того, чтобы светить на различных морских обитателей и выискивать носителей флуоресцентных белков. Если найти таких животных, то можно взять образец их ДНК и изучить его в лаборатории. И в итоге найти гены, которые позволяют организму светиться в ультрафиолете. А дальше… научные публикации, слава и профит. Биология — это ужасно интересно, и сегодня я расскажу вам, почему. Я простым языком объясню, как устроена жизнь, зачем нужен секс, как работают гены, почему мы одновременно похожи и не похожи на своих родителей.
К июню 2024 года население Земли достигло 8 млрд человек. Но знаете, что поражает? Это число намного меньше, чем примерно 37 триллионов клеток, из которых состоит человеческий организм. И, что любопытно, все эти 37 триллионов клеток происходят из одной-единственной оплодотворенной зиготы. Вообще-то все живые организмы, существующие сегодня, произошли от далёкого одноклеточного предка, который жил примерно 4 млрд лет назад.
Только представьте, в течение нескольких млрд лет на нашей планете одноклеточные организмы эволюционировали в многоклеточные формы жизни, причем несколько раз независимо, а потом отправились на Луну и даже освоили Пикабу. Вот она, сила биологии.
Все клеточные формы жизни на Земле произошли от общего одноклеточного предка. Кактус — наш родственник. Даже сифилис – наш родственник, хоть и очень далекий. Родословную этой жизни можно изобразить с помощью схематического «дерева». Клеточные формы жизни делятся на три самых крупных домена: бактерии, археи и эукариоты.
Про бактерий мы знаем с детства: кишечная палочка… стафилококк… гонорея… Окей, про гонорею обычно узнают чуть позже. К счастью, большинство бактерий безвредны, но некоторые могут вызывать опасные заболевания. На этот случай есть антибиотики. Есть и полезные бактерии, например, бифидобактерии, которые помогают нам делать кефир. Бактерии живут в нашем кишечнике, на коже и даже на роговице глаза. По некоторым оценкам, их десятки миллионов разновидностей.
У бактериальных клеток, в отличие от наших, нет ядра. Ядро — это структура, в которой хранится наследственная информация. В бактериальных клетках тоже есть наследственная информация, но хранится она без дополнительной мембранной оболочки. Это, как правило, просто плавающая кольцевая молекула ДНК.
Археи – тоже одноклеточные организмы без ядра, размножающиеся простым делением. Как и у бактерий, их наследственный генетический материал хранится в виде кольцевых хромосом прямо в цитоплазме, то есть в жидкости внутри клеток. Вот первый интересный факт: среди архей не известно ни одного вида, способного вызывать болезни. Зато живут они и в горячих источниках, и в солёных озерах, и в болотах. Внутри кишечника тоже живут.
Большинство биологов считают, что предки клеток растений, животных, грибов и других организмов с ядром получились из давних предков архей. Которые вступили в симбиотическое сотрудничество с бактериями. Мы – продукт слияния двух древнейших форм жизни. При этом наша ядерная ДНК, то есть наследственный материал, ближе к археям, а вот следы бактерий остались в нас в виде митохондрий.
Митохондрии — это практически клетка внутри клетки. Это структуры с собственной мембраной, которые занимаются дыханием. Их называют энергетическими станциями клетки. У митохондрий есть свой независимый наследственный материал, своя ДНК. Они даже делиться умеют! Именно митохондрии вдохновили создателей Звездных Войн на идею мидихлориан, симбиотических микроорганизмов, дающих Джедаям их силу.
Скорее всего, сосуществование древних архей и бактерий поначалу было паразитическим. Но потом они научились жить вместе взаимовыгодно. И благодаря объединению этих двух крупнейших и древнейших групп жизни, бактерий и архей, появилась новая группа жизни — эукариоты. Мы с вами. Ядерные клеточные организмы.
Вот три царства эукариот, которые проходят в школе:
Растения
Животные
Грибы.
На самом деле царств намного больше. Кстати, иногда в школе упоминают еще группу протистов — как пример одноклеточных эукариотов. Но протисты — это условное обозначение для огромного разнообразия жизненных форм, которые так же далеки друг от друга, как кактус от ежика. Если не больше. Там есть радиолярии, у которых скелет из диоксида кремния или сульфата стронция. Есть инфузории — с их активными ресничками. Есть споровики, к которым относятся, например, малярийный плазмодий и токсоплазма — известные паразиты животных. Есть амёбы, ползающие с помощью ложноножек.
Мы, люди, относимся к царству животных. И грибы к нам эволюционно ближе, чем растения.
Итак, мы состоим из клеток. У всех клеток есть клеточная мембрана, которая отделяет ее от внешнего мира. Клеточная мембрана позволяет клеткам поддерживать внутренние условия, отличные от внешней среды. Именно благодаря мембране клетка изолирована, но может избирательно взаимодействовать с внешним миром.
Как у нее это получается? Есть молекулы под названием «фосфолипиды». Сейчас расскажу, как они устроены. Представьте себе головастика. У него есть голова и хвостик. Голова предпочитает находиться рядом с водой, она гидрофильная, а хвостик гидрофобный. За счёт этого фосфолипиды самопроизвольно собираются в мембраны, которые состоят из двух слоёв: снаружи гидрофильные головы, а внутри гидрофобные хвостики. Если бы гомофобы зашли в гей-бар, они, наверное, тоже сгруппировались бы друг с другом аналогичным способом, чтобы минимизировать контакт со средой (но это еще предстоит исследовать).
Клеточная мембрана может быть проницаема для одних молекул и непроницаема для других. У современных клеток есть множество специализированных каналов и насосов, которые избирательно впускают что-то в клетку или выпускают из неё. Каналы работают пассивно: когда снаружи чего-то много, открытый канал может впустить это внутрь. Насосы же расходуют запасенную клеткой энергию, чтобы работать в обратную сторону.
Помимо внешней клеточной мембраны, бывают мембраны внутри клеток. Например, двойные мембраны у ядра и митохондрий. В наших клетках есть и другие мембранные структуры.
Что еще есть у клетки? Цитоскелет, благодаря которому она сохраняет форму. В отличие от нашего скелета из костей, у клеток он динамичный, постоянно выстраивается и разбирается. Цитоскелет состоит прежде всего из специальных белков.
Цитоскелет эукариот. Актиновые микрофиламенты окрашены в красный, микротрубочки — в зелёный, ядра клеток — в голубой цвет
А сейчас – время поговорить про молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты — ДНК. Это хранительница нашей наследственной информации. Мы получаем половину ДНК от мамы и половину от папы, плюс несколько десятков уникальных новых мутаций — случайных изменений в ДНК. Вот поэтому мы и похожи, и не похожи на родителей.
Чтобы жизнь могла продолжаться, клетки должны делиться, а перед каждым делением они должны скопировать свою ДНК. Природа «изобрела» очень элегантный способ для этого. ДНК — двойная спираль. Каждая отдельная цепочка ДНК состоит из четырех типов нуклеотидов, которые мы обозначаем символами A,T, G и C. Причем в двойной спирали напротив А всегда стоит T, а напротив G – C. Если разделить двойную спираль на две одиночные цепочки, а потом напротив каждой A поставить T, а напротив каждой C — G, и наоборот, то мы получим две двойные спирали, идентичные оригинальной. Так ДНК и копируется. И это происходит внутри нас постоянно. Процесс копирования ДНК называется «репликацией». Именно в ДНК хранятся все инструкции, чтобы синтезировать многочисленные белки, которые выполняют разные функции в организме.
Представьте, что клетка — это грандиозная кухня. Самое главное на этой кухне — ДНК, священная книга рецептов. Она разбита на несколько томов — хромосом, в которых записаны инструкции для приготовления многих тысяч блюд – белков.
Но книга на кухне одна, а прокормить нужно целый город. Поэтому есть специальные писцы — ферменты, которые переписывают отдельные рецепты на бумажки — молекулы РНК. С одной молекулы ДНК можно синтезировать миллионы таких РНК-рецептов, которые, в отличие от ДНК, состоят только из одной цепочки нуклеотидов. Этот процесс, который происходит по тому же принципу комплементарности, называется транскрипцией. Бумажки с рецептами, то есть синтезированные молекулы РНК, раздают поварам — рибосомам. Если какого-то блюда, то есть белка, клетке нужно больше, она производит больше рецептов именно этого белка. И тогда повара чаще «готовят» это блюдо.
РНК-рецепты выходят из клеточного ядра через особые ядерные поры. Там они встречаются с поварами-рибосомами, и те синтезируют белки в соответствии с инструкциями. А вот дальше всё зависит от того, для кого мы это блюдо готовим. Если белок должен остаться в цитоплазме, то рибосома просто отпускает его в свободное плавание. Если же это какой-нибудь функциональный белок-канал или белок-рецептор, который нужно встроить в клеточную мембрану, то в дело вступают специальные клеточные структуры — органеллы.
Наш повар-рибосома синтезирует блюдо-белок, который нужно куда-то доставить курьерской службой. Свежее блюдо прямо в процессе готовки просовывается через пору в эндоплазматический ретикулум. Там на него навешиваются химические бирки, похожие на те, что клеят на багаж в аэропорте. В соответствии с биркой белок запаковывается в мембранный пузырёк. Далее белок передаётся из пузырька в пузырек внутри аппарата Гольджи — это такой распределительный центр. По пути бирку проверяют, модифицируют пометками, и под конец последний пузырек отправляется, словно курьер, в сторону клеточной мембраны, с которой он сливается.
Аналогично устроена доставка «на экспорт», когда блюдо нужно отправить за пределы клетки. Есть и курьерская доставка в ядро: за это отвечают специальные белки-шаттлы, способные перевозить грузы через ядерные поры. Процесс приготовления блюда, то есть синтеза белка, называется трансляцией. Это перевод с одного языка на другой: с языка нуклеотидов, из которых состоят молекулы ДНК и РНК, на язык аминокислот, из которых состоят белки.
Итак, повара-рибосомы занимаются готовкой — созданием белков. Синтезируемые на рибосомах белки «сворачиваются» в трёхмерные структуры, которые выполняют в клетках разные функции. Мой любимый белок — алкоголь-дегидрогеназа. Это фермент, который помогает усваивать этиловый спирт.
Трансляция выглядит очень занятно: рибосома как бы пропускает РНК сквозь себя. Каждые три нуклеотида РНК указывают на одну аминокислоту, которую должна присоединить рибосома. Но откуда она знает, какая аминокислота нужна? Здесь помогают специальные транспортные РНК.
Есть много типов транспортных РНК, и каждая доставляет свою аминокислоту. Место доставки определяется за счёт совпадения по всё тому же принципу комплементарности трёх нуклеотидов в транспортной РНК и трёх нуклеотидов на информационной РНК, которая служит той самой «лентой», то есть рецептом.
Рибосома забирает аминокислоту у транспортной РНК и присоединяет её к растущей белковой цепи. По мере продвижения «ленты» из рибосомы выходит цепочка аминокислот, которая постепенно складывается в трёхмерную форму белка.
Итак, белки состоят из аминокислот и выполняют много разных функций. Когда говорят о белках, часто вспоминают цитату Фридриха Энгельса: «Жизнь — это способ существования белковых тел». Это не совсем верно. Но посмотрите, как много разного умеют белки — и это только самые интересные из них!
— Есть белки, которые плавают в цитоплазме и перерабатывают этиловый спирт.
— Есть прочные белки, вроде всеми любимого коллагена, и эластичные, как эластин, которые необходимы для придания упругости кровеносным сосудам, коже и не только.
— Есть белки, например, кинезины, которые буквально шагают по микротрубочкам цитоскелета и доставляют «грузы» из одной части клетки в другую. Грузом могут быть пузырьки с полезными молекулами, белками или даже целые митохондрии. Это особенно важно для нервных клеток с их длинными отростками — у них есть элементы цитоскелета, которые служат «скоростными магистралями». Ну как скоростные… до целого микрометра в секунду! Или метр за 11 дней. Примерно с такой же скоростью движется по направлению к мозгу вирус бешенства после укуса бешеным животным – он перемещается по этим же магистралям
— Есть белки, которые нужны для передачи нервного импульса.
— Есть белки, которые отправляются в ядро, чтобы регулировать работу генов. Они связываются с ДНК и указывают, какой ген активировать, а какой «выключить». И для их отправки в ядро используются ещё одни белки — белки-шаттлы.
— Есть белки, которые нужно выбрасывать наружу, например, инсулин. Инсулин — это пептидный гормон, маленький белок, с помощью которого особые клетки поджелудочной железы воздействуют на другие клетки организма. Так они регулируют уровень сахара в крови.
Каналы в клеточных мембранах сделаны из белков. Ферменты, ускоряющие химические реакции в клетке — тоже будут, скорее всего, белковыми. Если нужно что-то синтезировать, что-то впустить в клетку, что-то куда-то доставить — всё это будет происходить с участием белков.
Но есть молекулы, которые могут составить конкуренцию белкам по важности. Это РНК.
РНК — это такие «рецепты», которые нужны для синтеза белков. Но этим их функции не ограничиваются. Например, есть микроРНК, которые регулируют работу генов. Есть РНК, выполняющие функции ферментов, которые ускоряют некоторые химические реакции. Молекулы РНК играют важнейшую роль в работе рибосом и входят в их состав.
Скорее всего, молекулы РНК стояли у самых истоков жизни. Сначала были РНК, а уже потом появилась ДНК как более надёжный способ хранения генетического материала, а также белки — более разнообразный по функциям класс молекул. Почему именно РНК считают самым древним компонентом жизни? Потому что белки, хоть и вариативны в своих функциях, не умеют размножаться сами по себе. А ДНК, хоть и умеет размножаться, слишком инертна. А РНК может всё. Главное – она может эволюционировать.
Ещё для эволюции нужен источник генетического разнообразия. Поговорим о мутациях.
Для многих людей мутация ассоциируется с какими-нибудь черепашками Ниндзя или человеком-пауком. Связался с радиоактивностью, получил мутацию, стал супергероем. Но на самом деле радиоактивность в лучшем приведет к раку. Мутации — это изменения в ДНК, в тех самых последовательностях нуклеотидов A, T, G и С. И главный источник мутаций не где-то снаружи, а внутри. Мутации неизбежно возникают при копировании ДНК, а копирование ДНК — процесс не безупречный. Иногда напротив того или иного нуклеотида встает нуклеотид неправильный. Клетки умеют исправлять многие мутации, но далеко не все. И мутировать ДНК может где угодно и как угодно.
Только маленькая часть от огромного количества клеток, образующих тело человека, будет участвовать в передаче генетического материала следующему поколению. Поэтому уже на ранней стадии беременности возникают как бы два типа клеток: соматические клетки и клетки гермальной линии зародыша.
Из соматических клеток потом получаются и нейроны нашего мозга, и клетки почек, и клетки кожи, и клетки мышц. Мутации в них ни к чему хорошему не приводят, но и на генетическое разнообразие вида не влияют. Это разнообразие создается благодаря мутациям в клетках гермальной линии – это предшественники половых клеток, то есть сперматозоидов и яйцеклеток. И именно ДНК, которая содержится в предшественниках половых клеток, будет передаваться следующим поколениям. Увы, генетической памяти, как в Assassins Creed, не получится. Запоминаем мы мозгом, который состоит из клеток соматических, а не половых.
В каждой клетке нашей гермальной линии есть ядро, внутри него находится ДНК. Она упакована в хромосомы, которые под микроскопом выглядят как палочки.
В яйцеклетке и сперматозоиде по 23 хромосомы. При их слиянии образуется двойной набор, в сумме 46 хромосом. Из них 2 хромосомы будут отвечать за биологический пол. В яйцеклетке может оказаться только хромосома X, а в сперматозоиде либо X, либо Y. От того, какая хромосома окажется в сперматозоиде, который оплодотворил яйцеклетку, и зависит биологический пол эмбриона — это определяется сразу после зачатия. Обычно, когда есть две хромосомы Х, получается девочка. Если Х и Y, то мальчик.
На самом деле на Y-хромосоме есть один основной ген, который и запускает развитие тела по мужскому типу. Бывает, что этот ген перескакивает на Х-хромосому, или даже на не половую хромосому. Тогда получается мальчик с ХХ-хромосомами. Бывают и другие исключения. Но в целом женское тело — это тело по умолчанию. Поэтому не верьте в сказки про то, что якобы Еву создали из ребра Адама, что мужчина «первичен».
Да и вообще, никакого Адама, то есть первого мужчины, и никакой Евы, то есть первой женщины, разумеется, не существовало. Мы потомки целой популяции, а не двух людей. Мы знаем это благодаря работам, которые изучали генетическое разнообразие людей. А разделение на два пола возникло задолго до появления человека.
Половое размножение — универсальный процесс. Мы встречаем его не только у животных, но и у растений и грибов. Даже у бактерий есть нечто похожее на половой акт – когда они обмениваются генетическим материалом, можно сказать, что они занимаются сексом. У некоторых бактерий есть даже специальные «пили», которыми они тычут партнерш.
Биологический смысл секса — ускорение эволюции. Благодаря сексу образуются новые комбинации генов, возникает больше вариативности. У меня есть мои хромосомы, половину из них я передам каждому из своих гипотетических будущих детей. И это будет случайная половина.
Если говорить о половом размножении, конечно, сразу же вспоминается неугасающий спор о том, сколько существует полов. Какую бы цифру вы ни назвали, за грибами нам точно не угнаться. У некоторых видов грибов может быть тысяча полов. Если ты такой гриб, то можешь скрещиваться с кем угодно, кроме тех, у кого пол такой же, как у тебя. Это очень удобно, потому что уже не половина особей подходит тебе для размножения, а почти все.
Ну хорошо, с клетками гермальной линии более-менее всё ясно. А как становятся разными клетки соматической линии? Как они решают, кому стать легким, кому глазом, кому частью мизинца ноги? Разве это не удивительно, что ДНК во всех клетках нашего тела практически одинаковая, а клетки в разных местах организма очень разные?
Вернёмся к нашему образу ДНК как книги рецептов. Но хотя священная книга рецептов действительно универсальна, в разных местах используются разные рецепты для синтеза белков. Скажем так: ДНК — это всемирная книга рецептов, в которой есть десятки тысяч блюд. Но где-то в вашем теле есть французский ресторан, где-то индийский, а где-то китайский. И в каждом ресторане готовят только по тем рецептам, которые соответствуют его кухне, а остальные просто хранят для порядка. Получается, клетки избирательно используют те или иные «рецепты» из ДНК. Как они это делают?
Во-первых, есть специальные белки, управляющие переводом с языка ДНК на язык РНК. Клетка в ответ на разные сигналы, внешние или внутренние, может произвести такие белки-регуляторы и направить их в свое ядро. Там они связываются с ДНК и запускают работу некоторых конкретных генов. То есть клетка сама влияет на то, какие гены в ней работают в зависимости от условий.
Во-вторых, есть «эпигенетика», то есть надстройка над генетикой. Дело в том, что молекула ДНК может подвергаться обратимым химическим модификациям: где-то химические группы добавляются, где-то удаляются. Самый важный тип такой модификации ДНК — это метилирование, то есть присоединение CH3, метильной группы из одного атома углерода и трёх атомов водорода. Там, где много таких метильных групп, ген может «выключиться». Заметилировали участок ДНК — и он не работает. Или, наоборот, разметилировали — и участок заработал.
Еще один вариант эпигенетической регуляции связан с размоткой или намоткой ДНК на особые белки, которые называются гистонами. 23 хромосомы в составе ДНК содержат примерно 3 миллиарда нуклеотидов — буковок A, T, G, C, а 46 хромосом — уже 6 миллиардов. Если взять все хромосомы из одной молекулы ДНК, соединить их вместе одна за другой и вытянуть в ниточку, то длина ниточки будет 2 метра. А если собрать всю ДНК из одного человека, из всех клеток, то можно и вовсе дотянуться до Луны и обратно. Примерно 150 тыс. раз. ДНК очень компактно упакована, да еще и не путается, в отличие от наушников. Для этого и нужны гистоны, вокруг которых она обматывается, хотя есть и специальные белки, участвующие в размотке.
Чем компактнее ДНК упакована, тем менее она доступна для транскрипции, то есть синтеза РНК. Поэтому очевидный способ увеличить активность какого-то гена — это размотать нужный участок ДНК. И есть специальные ферменты, которые могут химически модифицировать гистоны с намотанной на них ДНК. Меняя степень намотки на разных участках ДНК, мы будем влиять на активность генов.
За счёт этого клетки могут получаться очень разными. У нейрона и мышечной клетки одинаковая ДНК, но активны в них разные гены. Вспомним нашу белковую кухню и скажем: какие-то страницы с рецептами мы заклеили для чтения, а какие-то страницы держим открытыми, чтобы любой желающий мог их прочитать, скопировать рецепт и приготовить нужное блюдо. Так устроена регуляция генов.
Особый интерес представляют нейроны, которые отвечают за работу мозга. Нейроны — это клетки с длинными отростками, которые связываются друг с другом, чтобы передавать сигналы.
Нейроны чаще всего передают сигналы с помощью специальных контактов, которые называются «синапсы». Чтобы сигнал проходил, нужны особые молекулы — нейромедиаторы, названия которых вы наверняка слышали — дофамин, серотонин, гамма-аминомасляная кислота, глутамат. Всё это молекулы, которые один нейрон выбрасывает в месте контакта с другим нейроном, чтобы подействовать на него. Есть активирующие нейромедиаторы — например, дофамин и серотонин. А вот гамма-аминомасляная кислота — это чаще тормозный нейромедиатор. Он снижает склонность нейрона к активации.
Первый нейрон выбрасывает нейромедиаторы в так называемую синаптическую щель — место контакта с другим, целевым нейроном. На поверхности целевого нейрона есть специальные рецепторы, которые могут реагировать на появление нейромедиаторов и открывать свои ионные каналы. Когда каналы открываются, возникает «потенциал действия». Мембранный потенциал в целевом нейроне резко меняется, возникает импульс, который активирует нейрон и передаёт сигнал по цепочке дальше.
Нейронам очень важно избавлять синаптическую щель от нейромедиаторов, которые больше не нужны. Есть специальные ферменты, которые разрушают нейромедиаторы в синапсе, а также механизмы обратного захвата нейромедиаторов.
Некоторые яды, вроде «Новичка», вмешиваются в эту систему. Они подавляют фермент, который разрушает нейромедиатор ацетилхолин — ацетилхолинэстеразу. Ацетилхолин передаёт сигналы от нервной клетки к мышечной и вызывает её сокращение. Если подавить разрушающий ацетилхолин фермент, то нейромедиатор продолжит активировать мышечную клетку, и та будет сокращаться без остановки. В результате возникает судорога, которая может привести к смерти.
На самом деле нейромедиаторы гораздо древнее нас и наших нервных систем. Эти вещества используются для коммуникации и у простейших форм жизни. Некоторые бактерии умеют синтезировать тот же серотонин и общаться с его помощью. Да, представьте себе, бактерии умеют общаться, и даже иногда принимают коллективные решения. Это феномен называется кворум сенсинг — «чувство кворума». Почти демократия!
Например, бактериям важно понимать, много их или мало. Они производят определённые сигнальные молекулы, и когда концентрация этих молекул становится высокой — значит, поблизости собралось слишком много бактерий. В таком случае нужно чуть помедленнее делиться.
Но когда мы говорим о поведении, мы обычно имеем в виду все же поведение животных, управляемое нервной системой. Наша нервная система пластична, а нейроны способны формировать новые связи. Это происходит каждый раз, когда вы узнаете что-то новое.
Но как устроена пластичность?
Академик Павлов проводил знаменитые опыты, посвященные условным рефлексам. Загорелась лампочка — дали собаке еду, снова загорелась лампочка — дали еду, ещё раз загорелась лампочка — опять дали еду… Через некоторое время собака начинает реагировать уже просто на включение лампочки: еды нет, а слюна всё равно выделяется. Опыты Павлова объясняются одним из важнейших принципов работы нервной системы – правилом Хебба. Нейроны, которые активируются вместе, связываются друг с другом на физическом уровне. У собаки после обучения оказались связаны нейроны, которые реагировали на лампочку, и те, которые реагировали на появление пищи.
Получается, наше обучение, навыки, опыт — всё это существует в виде физических взаимосвязей между нейронами. Наша личность — результат слаженной работы клеток, которая основана на биохимии, на работе ДНК, синтезе белков, регуляции работы генов. И весь этот сложный механизм происходит из одной-единственной клетки.
Как происходит формирование нашего организма — эмбриогенез?
Важнейший инструмент, помогающий клеткам ориентироваться во время эмбриогенеза — система координат, которая возникает за счет градиентов концентраций разных молекул. Каких-то молекул больше на одной стороне эмбриона, и там будет спина, а каких-то на противоположной. Аналогично с определением того, где должна образоваться голова, а где ноги. Где бы ни оказалась клетка, она может «почувствовать» концентрацию различных молекул, а также механически провзаимодействовать с соседними клетками и оценить, в какой части тела она оказалась. Разумеется, я говорю, что клетка «понимает», метафорически: все это в действительности регулируется биохимическими процессами и активацией генов.
Хорошо это все иллюстрирует мутация у мушки дрозофилы, которая называется «антеннопедия». На голове у такой мушки-мутанта на месте антенн в буквальном смысле вырастают ножки. Причина проста: клетки неверно поняли, в какой части тела они находятся, из-за неправильно работающего гена. Эмбриогенез сломался.
При этом гены, которые отвечают за эмбриогенез, эволюционно очень консервативны. Ведь если что-то пойдёт не так на ранней стадии развития эмбриона, дальше это уже не исправить. Одна ошибка поведет за собой множество других. Поэтому эти центральные гены на протяжении эволюции мало меняются. И то, что эти базовые программы у разных организмов схожи — ещё одно подтверждение нашего общего происхождения.
Это демонстрирует замечательная работа, где в некоторые клетки плодовой мушки встраивали и активировали ген, который отвечает за запуск развития глаза у мышки. У человека, если что, этот ген почти такой же. Результат был потрясающий: у мушки вырастали глаза на лапках и крыльях.
Когда геном человека, то есть совокупность последовательностей наших молекул ДНК, еще не был прочитан, ученые устраивали тотализатор на тему того, сколько же кодирующих белки генов у человека. Некоторые были уверены, что геном человека должен быть чрезвычайно сложно устроен. «Посмотрите на нас, какие мы сложные! У нас должно быть не меньше ста тысяч генов!» —говорили они.
В итоге в тотализаторе победил ученый, который назвал цифру всего в два раза больше, чем у плодовой мушки дрозофилы: 27 000 генов. Объяснил он свою догадку очень просто: «Дело было в баре, глубокой ночью. Наблюдая за поведением пьющих людей, я подумал, что оно мало отличается от поведения мух-дрозофил, у которых 13500 генов, а потому мне показалось, что удвоенного числа мушкиных генов людям вполне достаточно».
С тех пор удалось выяснить, что многие из генов в человеческой ДНК — это псевдогены, которые на самом деле не работают. А функциональных генов у человека около 20 000. То есть у нас примерно столько же генов, сколько у круглого червя Caenorhabditis elegans. Но хотя бы мушку дрозофилу обогнали… А вот у лука геном в пять раз больше человеческого. Видимо, когда мы режем лук, то плачем от своей генетической ущербности перед столь сложным и совершенным организмом. Да-да, вопреки расхожему мнению, человек не «венец эволюции» и тем более не «венец творения». Мы лишь один вид из огромного многообразия живых существ – и даже не самый сложноустроенный.
Мне кажется, что многие открытия в биологии помогают сбить спесь антропоцентризма. Да, у нас классные мозги, которыми, правда, мы не всегда пользуемся, если судить по количеству заблуждений, которые наш вид охотно распространяет. Но у других организмов свои преимущества. И если бы мы попробовали побыть в тех условиях, в которых живут археи — в солёных озёрах или горячих источниках — мы бы там и минуты не протянули.
Мы не конечный продукт эволюции, а просто один из множества видов организмов, которые в равной степени удалены от нашего общего предка. Как червяк, мушка или лук. Эволюция не стремится к какой-то конкретной цели, у нее нет плана. Так кто сказал, что мы не можем взять ее в свои руки? Это делает генный инженер, который создает лекарства от ранее неизлечимых генетических заболеваний. Это делает вирусолог, который разрабатывает вакцину от ковида. Это делает отважный молекулярный биолог М., который погружается на дно океана, запихнув в презерватив детектор фальшивых банкнот.
Надеюсь, этот текст помог вам чуть больше влюбиться в биологию. А если вам было что-то не очень понятно – задавайте вопросы в комментариях, постараюсь на всё ответить.
• Ереван — 17 ноября
Если YouTube медленно загружает — смотрите здесь.
Есть мнение, что научно-технический прогресс — враг нашего биологического вида. Коварная ловушка, которая погубит человечество. И если мы перенесёмся на 10 тыс. лет вперёд, отловим нашего потомка и забросим его на необитаемый остров с дикими зверями — он попросту отбросит коньки. А некоторые считают, что скоро совсем не останется мужчин, потому что в ходе эволюции Y-хромосома деградирует. Другие заявляют, что раньше люди жили по 700 лет. Даже знаменитый натуралист-телеведущий Дэвид Аттенборо — этакий британский Дроздов — однажды пожаловался: мол, мы «полностью остановили естественный отбор, потому что 95% детей выживают».
Итак, поставим вопрос ребром (из которого, согласно одной монографии, хоть и не прошедшей процедуру научного рецензирования, якобы сделали Еву): грозит ли нам в скором будущем вымирание мужчин? В СМИ довольно часто появляются подобные заголовки: Y-хромосома укорачивается, скоро мужчины перестанут рождаться.
В этом есть доля правды: Y-хромосома на протяжении длительного времени действительно уменьшалась в размерах. Но значит ли это, что мужчин ждет исчезновение? Давайте разбираться.
Для начала напомню, что такое X и Y-хромосомы. У каждого человека 23 пары хромосом. Это куски, на которые поделен наш геном, 46 таких «плетёных бантиков» из ДНК. 22 пары хромосом обычные — они кодируют разную важную информацию о том, как построить наш организм. Но вот двадцать третья пара — половая. Если у вас две Х-хромосомы — вы женщина. А если X и Y — то мужчина. Мы сейчас не будем обсуждать всякие экзотические случаи и исключения.
Кстати, любопытный факт: хромосома X называется так вовсе не потому, что визуально похожа на букву X. Такая форма свойственна вообще всем хромосомам, кроме Y.
Учёные назвали ее так, когда ещё не могли понять, зачем она нужна: это была хромосома Икс, как мистер Икс — таинственная хромосома. И то, что Y-хромосома под микроскопом отдалённо похожа на игрек — тоже случайное совпадение. Учёные просто взяли следующую букву после X.
Так вот, у наших половых хромосом очень интересная история. Вопреки утверждениям, что женщину сделали из ребра мужчины, и, наоборот, что мужчины произошли от амазонок-гермафродитов (да-да, такую теорию высказывала одна доктор биологических наук для объяснения... сосков), разделение на два пола возникло задолго до появления человека. Мы унаследовали его от наших далеких предков.
Как вы, наверное, знаете, два пола есть не только у животных, но и, например, у растений. Наш последний общий предок с этими фотосизирующими родственниками жил примерно 1,6 миллиарда лет назад. А сам секс еще древнее, он существует даже у одноклеточных бактерий. Обмен генетическим материалом между особями одного вида возник как ответ на необходимость адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.
Но конкретный механизм определения пола в ходе эволюции менялся. Пара XY работает у всех плацентарных и сумчатых млекопитающих — то есть тех, кто вынашивает детей в утробе либо в сумке. А вот, например, у утконосов, которые чуть более далекие наши родственники — кстати, все еще откладывающие яйца — уже все немного хитрее. Только представьте: у утконоса 52 хромосомы, и из них целых 10 — половые (пять X и пять Y).
Утконоса иногда называют «Шуткой Бога». Но этот зверёк — не чемпион по хромосомам: недавно учёные нашли лягушку, у которой половых хромосом вообще 12 из 22. Самое половое животное в мире!
Но давайте посмотрим на птиц и рептилий, которые на древе жизни стоят недалеко от млекопитающих, то есть ближе к нам, чем амфибии. У многих из них другая система половых хромосом — ZW. И у них всё наоборот: у самцов две одинаковых половых хромосомы «ZZт», а у самок «ZW». И по размеру так же: общая для двух полов Z — большая, как наша Х, а W, то есть переключатель пола — маленькая.
Так вот! Наша нынешняя Y-хромосома была маленькой не всегда. Примерно 180 миллионов лет назад жили-были две хромосомы, которые в будущем станут иксом и игреком. И были они как все остальные хромосомы — копиями друг друга. Примерно одинаковые и не очень приметные. А потом одна из них стала переключателем нашего пола. И стала уменьшаться.
Сегодня наши Х и Y-хромосомы разительно отличаются. X-хромосома содержит более 800 белок-кодирующих генов, что вполне прилично. На ней есть много генов, важных и для мужчин, и для женщин.
Например, гены, кодирующие факторы свертывания крови, белки-рецепторы, работающие в сетчатке глаза, гены, участвующие в работе мышц. Поэтому мужчины чаще болеют гемофилией, дальтонизмом и мышечной дистрофией Дюшенна. Ведь у нас только одна Х, нет запасной копии. Без хотя бы одной Х-хромосомы ребенок и вовсе не сформируется и не выживет. А вот без Y-хромосомы вполне можно прожить — и половина человечества с этим прекрасно справляется.
Мужская хромосома действительно маленькая относительно Х — в ней всего порядка сотни генов, кодирующих белки. Наверное, поэтому мужчины так и комплексуют из-за размеров. Но именно эта мини-хромосома содержит ключевой ген SRY, который отвечает за развитие пола по мужскому типу. Именно он запускает развитие тестикул, те производят мужские половые гормоны типа тестостерона — и плод развивается в мальчика. Тут же и разгадка тайны мужских сосков: в начале эмбрионального развития все мы девочки. Женский пол — пол по умолчанию, а превращение в мужчину происходит позже.
Это всё весело, но при чем тут вымирание мужчин? Итак, проблема. С тех пор, как человек и утконос разошлись — а это было более 160 миллионов лет назад — Y-хромосома потеряла подавляющее большинство своих генов. Деградация налицо. Такими темпами пройдёт всего каких-нибудь 11 миллионов лет — и всё! Ничего не останется — не будет никаких мужчин. Будет у нас только родитель 1 и родитель 2. Всё как обычно, учёные пошутили — и их сразу изнасиловали журналисты.
Действительно, некоторые люди восприняли это именно так: Y-хромосома катится в пропасть, скоро мужскому роду конец (скоро, напомню, это через 11 миллионов лет). Новость превратилась в мем. Мем превратился в легенду, а легенда — в репортаж на РЕН-ТВ. Все это на каком-то этапе стало звучать так: мужчины исчезнут через несколько ТЫСЯЧ лет. Паника!
Вот, например, диалог на форуме «Леди. Мейл.ру»:
«Дамы! Какой-то очередной профессор из Оксфорда просчитал, что мужчины полностью исчезнут с лица земли через 125 тысяч лет».
Ответ: «Жалко, что не доживу»
А ещё комментарий: «а как же секс?»
И ответ: «Сами, барышни, всё сами)»!
Что не так с этим прогнозом? Во-первых, кто сказал, что Y-хромосома продолжит уменьшаться? Совершенно не факт, что всё это время она деградировала с одинаковой скоростью. Вполне вероятно, что она сравнительно быстро «сбросила» гены, универсальные для мужчин и для женщин (они остались на X-хромосоме) — и оставила только те, которые нужны исключительно мужчинам. Ну а дальше терять нечего.
Во-вторых, кто сказал, что, если исчезнет Y-хромосома, обязательно исчезнет и мужской пол? В Центральной Азии, в Украине и России живёт группа видов грызунов под забавным названием слепушонки, у которых Y-хромосома... действительно пропала. Но они живут и прекрасно себя чувствуют. И таки да, у них два пола. X-хромосома у них, конечно, есть. От неё фиг избавишься, она жизненно важна для развития организма. А вот игрека нет.
Значит, даже полная утрата Y-хромосомы не значит, что мужчин не будет. Скорее наоборот: в рамках эволюции Y-хромосома может отмереть только тогда, когда станет ненужной — то есть когда вид найдет новый способ дифференциации полов. Это подтвердили ученые. Они взяли других таких же грызунов без «игрека», японских колючих мышей, и изучили их геном. Оказалось, что большинство важных генов, которые обычно живут на Y-хромосоме, у них «перепрыгнули» на другие, основные хромосомы — сбежали с Y-хромосомы, как крысы с корабля.
Но было одно загадочное исключение: учёные никак не могли найти тот самый главный мужской ген SRY, который у всех млекопитающих запускает развитие самца. Долго его искали, сравнивали геном самцов и самок — и наконец нашли объяснение пропажи. Оказалось, что на третьей хромосоме у этих грызунов есть мутация в гене, который обычно активируется, если есть ген SRY. То есть они избавились от посредника: сам ген SRY больше не нужен, развитие самца запускается уже со следующего шага в этом процессе. Соответственно, третья хромосома у колючих мышей теперь имеет два варианта: три и три-штрих (мужской вариант).
Не исключено, что эту три-штрих хромосому ждёт то же, что наш Y: вариант с «мужским» ключиком станет съеживаться — и в итоге станет крошечным, важным только для того, чтобы «заделать» мышку-мальчика. Мы видим, что у таких непарных хромосом происходит специализация. Раз одна из них нужна только одному полу, то на ней развиваются гены специального назначения, которые нужны самцам, но не нужны самкам. И дело вовсе не в том, что «мужчина не нужен». Специализируется всегда именно «одинокая» хромосома: у нас она «мужская», Y, а вот у ящерицы-варана или у курицы — наоборот, женская W.
Почему так происходит? Дело в том, что хромосомы не зря дублируются: это своего рода резервные копии. Все важные гены хранятся в двух экземплярах, в двух версиях хромосомы. Если в результате мутации или повреждения ДНК поломались гены в одной хромосоме из пары — организм может использовать запаску, даже исправить дефект, подсмотрев, как устроена другая копия. А вот у одинокой половой хромосомы нет пары, для которой она могла бы служить резервной копией. Поэтому она мутирует гораздо быстрее. И на ней лучше хранить минимальное количество информации. Так она превращается в специализированный «ключик» — как USB-брелок для активации секретной программы.
В общем, вывод такой: от мужчин не так-то просто избавиться! Скорее всего, Y-хромосоме ничто не угрожает. И даже если через миллионы лет она исчезнет, к тому времени уже появится новый механизм для запуска развития самцов. Но подождите: может, и хорошо, если бы она исчезла. Ведь тогда бы с ней исчезли не только менсплейнинг и менспрединг — а ещё и токсичная маскулинность.
Это не шутка. В 2023 году вышел препринт статьи про «Токсичную Y-хромосому» и её влияние на продолжительность жизни человека. Но почему мужская хромосома токсична? Феминистки здесь совершенно ни при чем. Дело в том, что у нас в ДНК есть мобильные элементы: это куски генома, которые умеют скакать с места на место, копируя себя. При этом они повреждают ДНК, что не очень хорошо. В организме есть механизмы, которые тормозят скакание этих элементов: их успокаивают специальные метки в ДНК.
Но с возрастом эти метки стираются, и движение мобильных элементов усиливается — мутаций становится всё больше, что может приводить к старческим болезням и раку. Так вот, авторы исследования утверждают, что таких мобильных генов особенно много на Y-хромосоме.
Поэтому, говорят они, женщины и живут дольше мужчин — буквально из-за токсичности их хромосомы, которая вызывает ранние болезни! На самом деле, хотя это звучит как шутка, токсичность Y-хромосомы — это настоящая сфера исследований, о ней есть работы в авторитетных журналах. И действительно, есть данные, что животные с гетерохромосомой (то есть «одинокой» хромосомой, будь это самцы или самки) живут в среднем на 17% меньше. Но пока что именно токсичность Y-хромосомы с этим связать не смогли. Возможно, разгадка в чём-то другом.
Ну хорошо, а как вид мы деградируем или нет? Остановился ли естественный отбор? Нет — и вот почему. Вот как устроена эволюция: пока существует генетическое разнообразие — пока мы вообще отличаемся друг от друга, и пока эти различия влияют на шансы оставить детей — отбор никуда не денется. Например, вакцины в некоторой степени уравнивают нас в защите от инфекции. Раньше бы выжили люди с мощной устойчивостью к патогену, а со слабой — умерли бы. Теперь выживают и те, и другие. Зато теперь, если ты стал антиваксером, то оставишь меньше потомства. Значит, отбор оставит тех, кто разумнее подходит к жизни. Как видите, отбор не исчез, он просто изменил свое направление. Кто-то приспособился к новым условиям, а кто-то нет.
В природе нет «приспособленности вообще». Есть приспособленность к конкретным условиям среды. Вот вы, уважаемые мои читатели, венцы эволюции, готовы выживать в горячих источниках, на дне марианской впадины или в верхних слоях атмосферы? А некоторые организмы готовы! Есть даже такое понятие: «ландшафт приспособленности», fitness landscape. Холмы этого ландшафта определяются всеми факторами, которые давят на отбор, включая условия среды, влияющие на способность передать свои гены следующим поколениям.
Так вот, эволюция двигает нас в гору, в сторону приспособленности из точки, где мы находимся в данный момент.
Представьте, что мы 100 тыс. лет лезли на некую гору адаптации. А потом случилось землетрясение, условия поменялись, старой горы не стало, а на её месте появилась новая. Теперь будем лезть на нее. И да, вероятно, нужны будут новые способности, ведь старые уже не годятся. И ландшафт меняется не только для нас.
Возьмем те же патогенные бактерии: раньше им не стоило так уж переживать из-за антибиотиков. А теперь они стремительно эволюционируют в сторону устойчивости к ним. И ничего, старые бактерии не издеваются над новыми, дескать, вы без этой вашей устойчивости теперь уже и нормально убить никого не можете! Что забавно, во многих других смыслах эти победившие, устойчивые бактерии будут слабее, чем их предки, которые не знали мыла и таблеток. Организовать себе устойчивость к антибиотикам, как минимум, дорого. Приходится чем-то жертвовать. И в отсутствии лекарств устойчивые бактерии часто проигрывают неустойчивым.
Эволюция человека никуда не делась. Изменилось ее направление. Нам больше не нужно душить тигров голыми руками и ходить зимой голышом. Зато теперь нам надо отличать нормальных врачей от гомеопатов и любителей лечить рак содой, избегать соблазнов дешевой калорийной пищи и сигарет, умело пользоваться современными средствами коммуникации и пристегивать ремни безопасности. А еще, чтобы передать максимальное количество своих генов потомству просто полюбите банк спермы! Как это сделал Павел Дуров.
Вот еще несколько примеров гипотетических направлений нашей эволюции. Снова возьмем антибиотики. Мы знаем, что они могут вызывать побочные эффекты. Значит, лучше будут выживать люди с мутациями, которые позволяют им хорошо переносить прием антибиотиков. Около миллиона людей ежегодно умирает в автомобильных авариях. Риск смерти повышается, если ездить пьяным или непристегнутым. А еще машины сбивают пешеходов. Значит, мы будем адаптироваться к миру машин. Сейчас мы боимся крупных кошек, потому что наших предков могли сожрать, теперь вместо него должен развиться страх перед несущимся на бешеной скорости автомобилем. Была такая известная и смешная пиар-кампания за безопасность на дорогах, где эволюционных биологов попросили смоделировать человека, адаптированного к автокатастрофам. У него была сверхмощная грудная клетка, негнущаяся шея, мягкое лицо и выворачивающиеся лодыжки.
Конечно, так отбор не работает: куда выгодней вообще не попадать в аварии. Но давайте представим, что в будущем все люди будут летать на космолётах, им придётся годами переживать невесомость или перегрузки. В таком случае у нас действительно может выработаться другая анатомия. Только есть нюанс: уйдут на это миллионы лет. Вместе с этим изменятся и стандарты красоты. Быть может, через два миллиона лет мы будем смотреть на такое существо с огромными глазами и крошечным тельцем и говорить: «Вот это красавчик пошёл, какие глаза, какой череп, какие красивые импланты!»
Итак, естественный отбор не остановился — он просто повернулся в сторону выживания людей, адаптированных к антропогенной среде. То, что она искусственная, а не натуральная (из деревьев, зверей, и пещер), никак не отменяет естественности самого отбора. И вполне вероятно, что люди с «мощной» генетикой первобытного воина как раз окажутся вымирающим видом. Например, со временем могут исчезнуть люди, которые более склонные к агрессии и решению проблем путём насилия. А могут и не вымереть, ведь направление нашей биологической эволюции отныне зависит от эволюции нашей культуры, а там у нас, увы, не все гладко.
И всё-таки тут очень важно сделать оговорку. Чтобы мы генетически изменились как вид, нужно очень много времени. Если бы мы привезли в наше время фотогеничного человека, скажем, из третьего тысячелетия до нашей эры, постригли и одели его, обучили, мы бы никак не могли распознать его древность. Тысяча лет — практически мгновение в масштабах эволюции. Разве что мы можем чуть ускорить процесс, используя искусственный отбор — и то рассчитывать стоит разве что на искоренение генетических заболеваний.
А еще не стоит забывать, что ландшафт приспособленности всё время меняется, и чем дальше, тем быстрее. Учёные придумали новую технологию — ландшафт изменился. Мы изменили облик планеты — он ещё раз изменился. Сейчас очень классно быть талантливым айтишником, можно много зарабатывать и работать удаленно. Но уже завтра тренд может измениться и окажется, что программирует за всех искусственный интеллект, а на пике популярности профессия сантехника. Теперь у сантехников и вилла на Мальдивах, а все женщины хотят от них детей.
А куда реально была направлена наша недавняя эволюция — и к чему ведет современная? Можно ли это отследить научными методами? Можно. Для этого надо найти гены, которые закрепил положительный отбор за последние несколько тысяч лет.
Есть такое явление, selective sweep, «выборочный подхват». Его ещё называют «генетический автостоп». Как он устроен? У некоторых генов могут быть различные варианты: например, у меня глаза карие, у кого-то голубые. Предположим, что на выживание и передачу генов это сильно не влияет. А теперь представьте, что рядом с геном, отвечающим за цвет глаз, на той же хромосоме возникнет очень полезная мутация. Человек с этой мутацией станет суперменом: теперь он летает, стреляет лазером из глаз, неотразим для противоположного пола, а еще не толстеет от чипсов и создает качественные мессенджеры. Конечно, эта полезная мутация расходится по многочисленным потомкам. При этом она «утягивает» за собой гены, стоящие рядом — своих соседей по ДНК. Происходит «выборочный подхват». И вот через тысячи лет мы видим, что почему-то все кругом голубоглазые. Хотя, казалось бы, в чем выгода? Да ни в чем. Ген голубоглазости просто «ехал» за компанию с геном суперменства. Это и есть «генетический автостоп». Но как из этого получить информацию об эволюции?
Дело в том, что «выборочный подхват» ослабевает с расстоянием. Самые ближние соседи полезного гена утягиваются за ним практически наверняка. А далекие соседи — не всегда. Это связано с тем, что наши хромосомы умеют обмениваться кусочками ДНК друг с другом. Это происходит перед образованием половых клеток — сперматозоидов и яйцеклеток. Вот посмотрите на картинку:
Чем ближе друг к другу два гена, тем больше вероятность, что они будут наследоваться вместе — и никакой обмен генетическим материалом их не разлучит. А чем дальше... тем вероятней разлука. Когда возникает сильное давление положительного естественного отбора, например, как в случае гена супермена, возникает интересная картина. По гену суперменства мы видим очень низкое генетическое разнообразие, наш вариант внезапно стал доминировать в популяции. Рядом с геном суперменства, допустим, был ген голубоглазости, этот признак тоже стал очень частым, но не таким частым, как суперменство. Тут генетическое разнообразие побольше. Допустим, чуть дальше находился ген рыжих волос. Его частота тоже поднялась, но в еще меньшей степени. Генетическое разнообразие по этому признаку больше — и так далее.
Тут мы для наглядности сильно упростили себе задачу, описывая явные признаки, но и с мутациями неизвестного назначения этот принцип работает аналогично. Допустим, я смотрю на геномы людей из некой популяции и вижу: в каком-то участке ДНК очень низкое генетическое разнообразие. Шаг влево или вправо от него, генетическое разнообразие чуть больше. Еще один шаг — еще больше и так далее. Получается пик низкого разнообразия генетических вариантов. Я вижу этот пик и понимаю: центральная мутация на вершине пика самая популярный — скорее всего самая полезная. А мутации рядом — это попутчики, которых она за собой утащила. Далее я могу прикинуть, как давно закрепилась эта полезная мутация. Если мутация есть у всех людей, значит, она распространилась еще на заре человечества, когда мы все жили в Африке.
А если она закрепилась в какой-то отдельной популяции, то это может быть свежим изобретением этой небольшой группы людей.
Вот так мы можем искать доказательства положительного отбора, хотя есть и другие методы. Просто этот самый наглядный — и его проще всего объяснить.
Так в каких реальных генах мы видимо признаки такого положительного отбора и за что они отвечают? Приведу несколько занятных кейсов. Например, ученые посмотрели на геном людей из Танзании, Кении и Судана — обитателей Восточной Африки. Они увидели признаки положительного отбора в гене, который помогает усваивать молоко во взрослом возрасте. Причём начался этот отбор примерно 7 000 лет назад. Почему — понятно: до этого молоко было разве что материнским. А 7 000 лет назад наши предки начали активно разводить коров — и стало выгодно усваивать коровье молоко, не бегая постоянно в туалет. И эволюция в рекордные сроки научила людей этой невероятной суперспособности. Этот «ген Супермена» стремительно разошёлся в популяции.
А откуда вообще изначально была нетолерантность к лактозе? На этот счет есть забавная гипотеза: когда-то непереносимость лактозы во взрослом возрасте была эволюционно полезна, чтобы взрослые не конкурировали за материнское молоко с собственными детьми. А ведь человеческое молоко очень высоколактозное, лактозы в нём в 1,5 раза больше, чем в коровьем. Поэтому взрослые, которые воровали у деток молочко, получали по заслугам — мощнейший понос. Эволюционное наказание свыше! Опять же, вспоминаем идею ландшафта приспособленности. Когда-то непереносимость лактозы могла быть полезной. А теперь (и уже последние 5000 лет) от неё, наоборот, одни неудобства.
И вот снова времена меняются. Так, я очень люблю хлопья с молоком и долго страдал, что не мог их себе позволить. А потом доступным стало молоко безлактозное, а еще овсяное — и теперь я почти не страдаю. Не успел я эволюционировать, а прогресс уже подоспел и все переиграл.
Но давайте вернемся к отбору. Вот ещё один пример, его описали в журнале Science в 2010 году. Учёные сравнили геном жителей тибетского высокогорного плато и обычных китайцев хань — есть ли у одних «пики однообразия», которых нет у других. И нашли один из самых быстро эволюционирующих генов, EPAS1. Частота этого гена радикально изменилась от ханьцев к тибетцам. Также он известен как «индуцированный гипоксией фактор два альфа». Наверное, вы уже догадались: тибетцы стремительно адаптировались к низкому содержанию кислорода в тибетском высокогорье. Кто не мог дышать — умер... или пошел жить в долину. А у оставшихся гораздо лучше вырабатываются эритроциты (клетки, которые переносят кислород) — и они спокойно живут в разреженном воздухе.
Третий пример возьмем из статьи 2016 года. Её авторы придумали способ смотреть на изменения, которые, по меркам эволюции, произошли буквально только что... ну то есть в последние два-три тысячелетия. Так вот, у жителей Великобритании нашли множество признаков положительного отбора. Например, там тоже проходил отбор в пользу усвоения лактозы. Адаптировался к местным инфекциям комплекс гистосовместимости, очень важный для иммунитета. Также ученые увидели, что в Великобритании очень быстро увеличилась частота мутаций, связанных со светлыми волосами, голубыми глазами, веснушками, а также высоким ростом. Но почему отбор шёл именно по цвету глаз или волос? В чём было преимущество? Возможно, как в моем теоретическом примере, эти признаки всего лишь попутчики — просто рядом с этими генами было что-то очень полезное, что мы пока не разгадали. Но интересней версия, что это мог быть культурный феномен. По каким-то социальным причинам — например, из-за ксенофобии или популярности в песнях — эти цвета волос и глаз стали больше привлекать сексуальных партнёров.
Тут мы вплотную подобрались к эволюции, которой движет человеческая культура. И вот вам пример на ближайшее будущее. Учёные проанализировали геном китайцев народности хань — это большинство современного населения КНР.
Оказалось, что у них идёт мощнейший положительный отбор в пользу гена, который мешает пить этиловый спирт. Речь про вариант гена, вызывающего известный «Азиатский синдром красного лица». С ним человек мгновенно чувствует похмелье, даже после одной рюмки. Такие люди реже становятся алкоголиками. К похожему выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Европейском журнале генетики человека. Варианты генов, которые связаны с непереносимостью алкоголя и со сниженным потреблением этанола, стали более частыми среди японского населения в ходе недавней эволюции. А еще оказалось, что их носители имеют сниженную смертность. Но самое интересное, положительные эффекты этих генетических вариантов остались неизменными даже после того, как была учтена собственно сама привычка употребления алкоголя — то есть мутация полезна сама по себе.
Вот так эволюция благосклонна к прирожденным трезвенникам. Еще в исследовании на Ханьцах нашли признаки отбора в генах комплекса гистосовместимости — и почему-то в генах, связанных с обонянием. А ещё в генах, связанных с пониженным кровяным давлением. Так что люди очень даже продолжают адаптироваться к среде, в которой живут, и естественный отбор идёт вовсю. Возможно, через тысячи лет мы все-таки перестанем пить (потому что нас захватят трезвенники-китайцы).
По влиянию социума на биологический отбор возникает еще один вопрос. Мы видим, что в разных странах этот отбор идёт в разные стороны. И я как биолог иногда задумываюсь: а в какую сторону будет направлен отбор в некой воображаемой стране, откуда талантливые люди вынуждены эмигрировать, бесстрашных людей наказывают за смелость, а честных удаляют из генетического пула?
Итак, человечество продолжает эволюционировать. И, главное, мы можем на это повлиять. Ведь мы выяснили, что антропогенная среда действует на нас так же, как и природная. Поэтому в наших силах направить свою эволюцию в светлое будущее, а не в сторону деградации. Да и вообще, нет никакого смысла уповать на естественную эволюцию и ждать у моря погоды. Если что-то в нашей дальнейшей эволюции нам прямо сильно не понравится, уже скоро все можно будет поправить с помощью генной инженерии, а уже сейчас с помощью методов пренатальной генетической диагностики. Именно благодаря науке и технологиями когда-нибудь мы будем осмысленно влиять на генетические особенности своих детей, заменим суровую и негуманную эволюцию, работающую методом проб и ошибок, на автоэволюцию, о которой так много писали фантасты вроде любимого мной Станислава Лема.
• Дюссельдорф — 17 октября
• Барселона — 19 октября
• Лимассол — 21 октября
• Ереван — 17 ноября
Если YouTube медленно загружает — смотрите здесь.
В моду снова вошли доносы. Так, недавно на меня подали заявление в Генпрокуратуру через целого депутата Госдумы, Сергея Миронова, лидера «Справедливой России». И написали об этом статью на сайте канала «Царьград» под названием.... «Панчин и паразиты». Но почему «Панчин и паразиты»? А потому, что у авторов пригорело от моей научной статьи аж 2014 года, опубликованной в особом разделе «Гипотезы» в журнале Biology Direct. Если что гипотеза в науке — это недоказанное предположение, которое только предстоит проверить. Не претендующее на истину. И гипотеза была такая: если у животных бывают паразиты, которые манипулируют поведением хозяина, не может ли быть такого паразита, который заставляет людей выполнять антисанитарные ритуалы — например, целовать иконы или купаться в реке Ганг?
Это может быть выгодно паразиту, так как повышает его шансы заражать других людей. Обычно от заражения нас спасает чувство отвращения. Например, представьте себе тарелку вкусного борща. А теперь представьте, что вы в него плюнули. Казалось бы... ничего нового вам в рот не попадёт, но аппетит пропадает сразу. А если там окажутся слюни другого человека — или хотя бы волос... То это ещё противнее. А с целованием священных реликвий чувство брезгливости почему-то отключается.
Так же и у мышки с мозговым паразитом отключается отвращение к запаху хищника — потому что паразиту выгодно, чтобы его хозяина съели. Многих эта гипотеза шокировала. Но вообще-то мы знаем паразитов, которые манипулируют поведением не только мышек, но и человека. Самый известный из них — вирус бешенства. В поздней стадии болезни вирус проникает в мозг. Жертва становтся агрессивной, стремится всех покусать и обильно выделяет слюну, в которую вирус мигрирует, чтобы заражать укушенных.
Но есть еще один мозговой паразит. Он настолько распространился по миру, что сейчас им заражено около трети человечества.
Это более 2 млрд человек. А в некоторых странах заражено почти все население. Причем распределение местами неожиданное. Например, в Бразилии один из самых высоких показателей, в Мексике — один из самых низких. В Швейцарии больше, чем в Камеруне — целых 46%, а в Китае — всего 8%. Вот как он выглядит.
Итак, знакомьтесь — токсоплазма. Этот вездесущий паразит, кажется, обладает невероятными способностями — вот например:
1. Токсоплазма умеет разрушать клетки сосудов и проникать из крови прямо в мозг, в обход его защитного барьера;
2. При беременности она смертельно опасна для плода, может разрушить его мозг и глаза, вызвать выкидыш. И даже некоторых взрослых людей убивает;
3. Токсоплазма виновна в увеличении числа автомобильных аварий — она замедляет реакцию людей, при этом усиливает их агрессивность и импульсивность;
4. Токсоплазма повышает уровень тестостерона у зараженных мужчин и, предположительно, снижает у женщин. Их поведение тоже меняется — то есть паразит управляет нами по-разному в зависимости от пола; сексист проклятый!
5. Токсоплазма в несколько раз повышает риск развития шизофрении и вероятность суицида;
6. Токсоплазма вызывает у людей необъяснимую любовь к котикам, вплоть до тяги к запаху кошачьей мочи;
7. Токсоплазма подталкивает людей к сексуальным извращениям... И даже может сделать своих жертв более сексуально привлекательными.
Не все перечисленные утверждения о токсоплазме одинаково научно обоснованы. По одним есть очень хорошие исследования. По другим данные противоречивые, порой даже сомнительные и мы их разберем. Но очевидно, что токсоплазма — один из самых интересных и изучаемых паразитов.
Токсоплазма — это одноклеточный паразит. Не бактерия, не вирус, а простейший организм. У нее есть родственник, о котором вы наверняка слышали — малярийный плазмодий. Да, если вы не знали, малярию тоже вызывает не бактерия и не вирус. Оба этих супостата принадлежат к типу апикомплексы, или споровики. К нему же относятся некоторые другие болезнетворные паразиты — бабезии, криптоспоридии, саркоцисты.
Все эти паразиты — сложные одноклеточные, по своему строению они очень похожи на клетки человека. У них есть ядро и другие органеллы. Поэтому их не вылечить обычными антибиотиками, нужны особые лекарства. Ведь сложно подобрать препарат, который избирательно их убьет, а наши клетки не тронет.
Еще один козырь токсоплазмы — это внутриклеточный паразит. Какой-нибудь бычий цепень живет в теле, но между клеток. А токсоплазма заползает прямо внутрь клетки и устраивается там, как дома. Потом может размножиться, разорвать клетку изнутри и заразить ее соседей.
Вообще паразиты — крайне увлекательная тема (кстати, о них написана одна из лучших научно-популярных книг, которые я читал, «Паразит — царь природы» Карла Циммера).
Во-первых, паразиты — это очень распространенная группа живых существ. В природе практически нет никого без них. Во-вторых, они сыграли огромную роль в эволюции жизни на Земле.
Вернемся к токсоплазме. В начале, после заражения, паразит активно размножается и вызывает у человека легкое недомогание. Когда иммунная система начинает побеждать токсоплазму, та создает себе защитные укрытия в нашем теле — цисты, герметичные непроницаемые капсулы.
Они образуются в излюбленных местах токсоплазмы — в наших мышцах и мозге. Токсоплазма пробирается прямо в мозг из крови и обходит при этом гематоэнцефалический барьер. Клетка сосуда буквально лопается — и паразиты врываются в межклеточное пространство. А оттуда они уже могут поразить нервные клетки.
А почему токсоплазме так нравятся мышцы? Потому что это вкусное мясо для хищников. Дело в том, что для токсоплазмы человек — лишь промежуточный хозяин. Чтобы продолжить свой жизненный цикл, ей необходимо попасть в котиков.
Почему в котиков? Как всегда, дело в сексе. В ходе эволюции у токсоплазмы развились довольно странные вкусы. Она готова заниматься сексом только в кошачьих. В любых кошачьих, от пантеры до домашнего котенка. Да, такое у нее извращение. Наши тела ее не заводят, какими бы стройными, красивыми и умными мы ни были. Внутри нас можно только делиться. Но токсоплазме хочется полового размножения, секса с другими токсоплазмами, ведь секс создает изменчивость и ускоряет эволюцию. Вот ей и нужно, чтобы конечный хозяин съел промежуточного. Конечно, людей кошки едят не очень часто, мы для токсоплазмы — не перспективный хозяин. А вот мышки — очень хорошее такси, позволяющее попасть прямиком на кит-кэт секс-вечеринку.
Итак, кошка съела мышку и заразилась токсоплазмой. После успешного секса из кошки выходят миллионы так называемых ооцист, микроскопических яиц. Примерно через сутки вне тела они становятся заразными, а потом разносятся по округе и поджидают жертву много месяцев. Новая мышка случайно съедает ооцисту — и цикл повторяется.
Кстати, чтобы повысить свои шансы на секс, токсоплазма порой идет на разные ухищрения. Ради этого она готова даже заботиться о нас. Оказалось, что токсоплазма (во всяком случае, одна из ее разновидностей) умеет специально усиливать воспаление, чтобы подстегнуть иммунитет. Ведь в интересах паразита, чтобы организм хозяина был жив-здоров, пока его не съедят... котики. Поэтому, если токсоплазмы стало слишком много, она сама провоцирует иммунную реакцию на себя и прячется в цисты.
Это должен знать каждый
Человек — не самый желательный хозяин для токсоплазмы. Но каким-то образом она умудрилась заразить 30% человечества. Вы ещё не заражены? Это можно исправить. Самый простой способ — поесть сырого мяса. Также можно заразиться через грязную воду или еду, на которую случайно попали ооцисты из кошки. Например, поесть немытые овощи. А еще во многих странах женщинам во время беременности рекомендуют не чистить кошачий лоток, либо делать это в перчатках и тщательно мыть руки. Почему именно им, а не всем? Дело в том, что обычно токсоплазма переносится очень легко. Да и домашние кошки обычно не заразны. Но, как я уже писал, при беременности токсоплазмоз может вызывать тяжелые поражения плода — воспаление мозга, повреждения глаз. Возможен даже выкидыш. Поэтому практически все беременные женщины по всему миру теперь проходят тест на токсоплазму, а если паразита нашли — получают специальные лекарства.
Также болезнь крайне опасна для людей, у которых серьезно ослаблен иммунитет: прежде всего для ВИЧ-инфицированных и тех, кому пересаживают орган и дают иммунодепрессанты. Особенно учитывая, что сам орган донора может содержать паразита (на это умеют проверять, не переживайте). В остальных случаях токсоплазмоз проходит практически незаметно. Но паразит остается в теле на много лет.
Токсоплазма — пожалуй, один из самых успешных паразитов на планете. Она умеет заражать почти всех теплокровных животных — не только млекопитающих, но и большинство птиц. Не могут от нее скрыться даже сумчатые кенгуру в Австралии. Токсоплазма даже убила бедную панду в китайском зоопарке. Такая универсальность — не правило, а скорее редкое исключение.
От токсоплазмы до конца вылечиться крайне проблематично. В обзорной статье 2019 года учёные отмечают, что новых лекарств от токсоплазмы не появлялось уже 20 лет. И хотя есть препараты, которые помогают облегчить активную фазу заболевания и снизить образование цист — пока что нет ни одного, чтобы полностью уничтожить уже сформированные цисты. Но исследования по поиску таких лекарств ведутся. И со временем, возможно, мы сможем искоренить паразита. А пока что, согласно исследованиям, одна из самых эффективных защит от заражения токсоплазмой — это просто хорошая осведомленность.
Ну хорошо, врага в лицо мы узнали, про правила безопасности написали. А теперь главное: правда ли, что токсоплазма способна манипулировать нашим поведением? Да.
В статье 2000 года описан такой эксперимент: берем крысу и помещаем её в центр комнаты. Вокруг нее — четыре разных запаха: в одном — запах кошки, в другом — запах кролика, в третьем — её собственный, в четвертом — нейтральный. Где она чаще всего будет проводить время? Нормальные крысы избегают запаха кошки. А вот инфицированные токсоплазмой, наоборот, проводили там, где пахло кошкой, в 20 раз больше времени, чем в других углах. Поэтому ученые назвали свою работу «Роковое влечение у крыс», в честь известного фильма. Понятно, почему это роковое влечение выгодно паразиту: ему нужно, чтобы носителя-грызуна поскорее съела кошка.
Похожие исследования проводил Роберт Сапольски, знаменитый профессор из Стэнфордского университета. Он хотел понять, как именно это работает. Пропадает страх — или включается что-то еще? И выяснил, что паразит не просто выключает страх, а превращает его во влечение. Причем во влечение, похожее на сексуальное. Это можно сравнить с тем, как для любителя БДСМ боль может приносить наслаждение.
К слову о сексуальном влечении: знакомьтесь, Ярослав Флегр, чешский ученый и один из первых и самый известный исследователь токсоплазмы.
Он занялся этой темой еще в социалистической Чехословакии. Причем Флегр считает, что и сам ощущает влияние токсоплазмы на свой мозг. Этим он объясняет то, что в детстве постоянно вслух выражал оппозиционные взгляды, не опасаясь проблем с компартией. И в целом свою безбашенность — мол, он спокойно работал под звуки выстрелов за окном во время командировки, а шоссе переходит, не глядя по сторонам.
Так вот, Флегр постоянно мучает своих студентов опросниками и заставляет их сдавать анализы на токсоплазму. А еще проводит исследования с использованием эпидемиологических данных по всей Чехии. Например, он сравнил сексуальные вкусы и предпочтения 5 тыс. человек без токсоплазмы и 700 зараженных. Чех выяснил, что инфицированные люди больше возбуждались от страха, опасности или сексуального подчинения. Хотя в реальности вели более традиционную сексуальную жизнь, чем незараженные.
У Флегра подозрительно много статей, где он изучает мазохизм, доминирование и прочее. Почему больше детей у женщин, которые предпочитают мужчин, любящих подчиняться? Имеют ли эволюционные корни доминирование и бондаж? Усиливает ли токсоплазма склонность к мазохизму?
И наконец, вот такая статья: «Оральный секс — потенциальный путь передачи токсоплазмы. Эксперименты со спермой людей и лабораторными мышами». Суть там следующая. В сперме зараженных людей изредка находят цисты токсоплазмы. И Флегр решил проверить ее заразность. Учёный взял 82 несчастных мыши, привлек 40 мужчин с латентным токсоплазмозом, а потом стал кормить мышей спермой. Из плюсов — мыши хотя бы не заразились. Оральный секс оказался безопасным. В общем, не зря, видимо, ходят мемы про то, какие чехи мастера по всяким кинки-делам — и какая у них процветающая секс-индустрия.
Если серьезно, Флегр пытался доказать, что изменения в поведении людей — это слабое отражение эффекта токсоплазмы на крысах. Грызуны бегут в сторону опасности. Зараженные люди тоже тянутся к риску и возбуждаются от вещей, которые обычно пугают. Но если вы уже начали гуглить тест на токсоплазму, мне придется вас огорчить. Да, все эти статьи сделаны вроде бы методологически более-менее аккуратно, да, эффекты в них как будто статистически значимы. Но само влияние на поведение, которое они показывают — очень слабое. Даже сам Флегр считает, что нельзя определить по поведению человека, есть у него токсоплазма или нет.
Ещё одно смелое заявление Флегра — что от токсоплазмы у мужчин повышается уровень тестостерона, а у женщин снижается. Другие ученые решили это проверить. В 2024 году вышел метаанализ о влиянии токсоплазмы на тестостерон. И там две трети работ дали похожий результат. Отмечали даже повышенную сексуальную активность у зараженных. Правда, в некоторых других статьях эффект порой был скорее обратным.
Флегр утверждал, что изменение уровня тестостерона за счет токсоплазмы якобы влияет на внешность людей. Когда фото зараженных студентов показывали студенткам, те ставили им более высокую оценку «доминантности» и «мужественности». Похожий опыт произвели ученые в Мексике. И снова зараженных мужчин и женщин на фото оценили как более привлекательных и здоровых. Посмотрите на составное изображение зараженных и не зараженных из этого исследования. На мой взгляд, разница ощущается, хотя соглашусь, что такое смелое утверждение требует больше доказательств.
При этом не думаю, что токсоплазма превращает мужчин в крутых мачо. Флегр утверждает, что зараженные мужчины более склонны к интроверсии, подозрительности и осторожности, небрежно одеваются и часто игнорируют правила и законы. Такие... нелюдимые красавчики. А вот зараженные женщины, если верить чеху, были более общительными, элегантно одетыми, аккуратными и законопослушными. При этом в целом ряде исследований у зараженных женщин в среднем было больше сексуальных партнеров, чем у незараженных.
А вот интересный вопрос: меняется ли у зараженных людей отношение к той самой кошачьей моче? Флегр заявил, что для зараженных мужчин запах кошачьей мочи был чуть более приятен, чем для незараженных. А у зараженных женщин — наоборот. При этом токсоплазма никак не повлияла на отношение подопытных к запаху мочи лошадей, гиен, собак и тигров. Вы спросите, как он это проверил? Очень просто! Большую часть урины Флегр добыл в Пражском зоопарке, а мочу лошадей и собак ему принёс друг.
Но через пять лет ученый резко поменял мнение. Мол, в первый раз я мочу разводил водой, а теперь дал понюхать людям в чистом виде. И тут Флегр получил результат с точностью до наоборот: теперь мужчинам с токсоплазмой кошачья моча нравилась меньше, а зараженные женщины отнеслись к ней более терпимо. Меня эти результаты не очень впечатляют — может, никакого эффекта и нет. И в целом я бы с осторожностью относился к любым подобным исследованиям, кроме тех, которые удалось независимо воспроизвести.
Не все, что говорит Флегр, вызывает доверие. Нам нужны примеры влияния токсоплазмы на людей, которые подтверждены множеством независимых исследований. И они есть. И, к сожалению, довольно печальные. Токсоплазму связывают с суицидом, болезнью Альцгеймера и шизофренией. Например, в одном исследовании показали, что наличие токсоплазмы в 3 с лишним раза повышает риск попытки самоубийства. В другой работе этот риск повышался даже сильнее, в 17 раз. А в одном огромном обзоре литературы по теме сказано, что в разных исследованиях этот риск как минимум в полтора-два раза выше, чем для незараженных людей.
Но вот что любопытно. Во всех этих работах зараженные токсоплазмой не отличались более тяжелой депрессией или повышенным ощущением безнадежности. А попытки суицида совершали чаще. Как так? Одно возможное объяснение — что токсоплазмоз прежде всего влияет на импульсивность поступков. Другое — что болезнь вызывает то самое безразличие к опасности.
К слову об опасности. Еще одна гипотеза Флегра — что токсоплазма повышает риск автокатастроф. Якобы паразит не только повышает импульсивность, но и ухудшает время реакции. Флегр собрал немало данных: например, от 4 тыс. водителей-срочников в чешской армии. Его вывод — зараженные попадают в аварии примерно в 2 раза чаще. Другие ученые не так уверены. Был обзор, где для водителей младше 45 лет нашли небольшой эффект, а вот после 45 — уже нет. Честно говоря, у меня тоже сомнения в верности этой гипотезы.
Зато есть небольшой метаанализ, согласно которому токсоплазма примерно в полтора раза увеличивает риск болезни Альцгеймера. Это логично, ведь паразит вовсю хозяйничает в клетках мозга.
Правда, есть более опасные факторы — например, есть генетический вариант, который повышает этот риск в 15 раз.
Целый ряд научных исследований говорит о том, что латентный токсоплазмоз может повышать риск шизофрении. Так, в 2015 году вышел обзор 50 исследований. Он показал, что люди с диагнозом «шизофрения» на 80% чаще были носителями токсоплазмы. А есть две совсем свежих работы 2024 года. В них у больных шизофренией токсоплазму тоже находили чаще, чем у здоровых — в 2 и 3 раза соответственно. Но можно ли сказать, что токсоплазма приводит к шизофрении? Это сложный вопрос. Зараженных токсоплазмой — очень много, а шизофрения встречается редко. Так что связь явно не прямая. И все же токсоплазма, по-видимому, повышает риск болезни.
Есть множество гипотез о причинах шизофрении, и одна из популярных сейчас — это так называемая «дофаминовая гипотеза». Вы, конечно, слышали про дофамин. Это нейромедиатор, который участвует в системе вознаграждения и обучения.
Он влияет на смех, страх, агрессию, радость, а также на зависимости. И есть исследования, которые показывают, что антагонисты дофамина — то есть молекулы, которые мешают дофамину работать — почему-то часто облегчают жизнь пациентам с шизофренией. А молекулы, которые усиливают действие дофамина, наоборот, могут усугубить психоз. Например, амфетамины. То есть идея в том, что шизофрению может вызывать ненормальный избыток дофамина в мозге.
Следующий момент. Бывают такие болезни, при которых дофамина в мозге критически не хватает. Например, болезнь Паркинсона. Но врачи не могут просто ввести дофамин человеку. Он не пройдет через гематоэнцефалический барьер, то есть барьер между кровью и мозгом. Поэтому больным прописывают леводопу. Это вещество-предшественник, из которого потом в нейронах создается дофамин.
И вот важная улика — Токсоплазма сама умеет синтезировать эту леводопу. У нее есть для этого нужные гены. Есть работа, которая показывает, что токсоплазма действительно усиливает выработку дофамина в тех нейронах, которые заразила. Кажется, мы на верном пути. Но нужны еще доказательства.
Помните эксперименты, где грызуны бежали на запах кошки? Ученые попробовали дать грызунам галоперидол — лекарство-антипсихотик, которое облегчает симптомы шизофрении.
И влечение к углу с запахом кошки пропало. То есть дали лекарство для лечения шизофрении — а ослабился эффект токсоплазмы. Причем специально проверили — может, галоперидол просто убивает токсоплазму? Кажется, нет, он именно ослабил ее власть над крысой.
А недавно, в 2024 году, пазл вроде сложился. Удалось показать, что эта власть над поведением связана именно с дофамином. Известно, что дофамин играет важную роль в распознавании запаха хищника. Поэтому у мышей с помощью генной инженерии сломали фермент, который его перерабатывает, дофамин-бета-гидроксилазу. Из-за этого дофамин у мышей бесконтрольно накапливался в нейронах. Обычно, когда мышки чувствуют запах кошки, они пытаются зарыться в землю. А «надофаминенные» мышки-мутанты просто игнорировали запах хищника. Когда ученые искусственно снизили количество дофамина у этих мутантов, мыши снова начинали бояться кошки.
Возможно, токсоплазма в своих интересах повышает количество дофамина в мозге. Так она манипулирует грызуном, чтобы тот не боялся хищников и его съели. Но у человека такой же избыток дофамина в определенных частях мозга может повысить риск шизофрении — конечно, если дофаминовая гипотеза верна. Вот такое предположение.
Про дофамин и токсоплазму есть еще два интересных исследования.
Первое. Мышей специально заражали токсоплазмой — и видели, что в некоторых местах мозга у них действительно повышается уровень леводопы и дофамина. В том числе в участках, которые отвечают за эмоциональные реакции, такие как страх и влечение.
И второе. Генные инженеры попробовали пойти от обратного. Они создали не генно-модифицированных мышей, а генно-модифицированную токсоплазму! Сломали ей как раз те гены, которые производят леводопу. А потом заразили ГМО-паразитом кошек. И обнаружили, что ГМО-токсоплазма почему-то более вяло размножается в конечном хозяине и создает меньше ооцист. К сожалению, о том, что происходит, если такой ГМО-токсоплазмой заразить мышек, исследование умалчивает. Скрывают!
Но похоже, что дофамин нужен токсоплазме не только для управления мозгами. А просто для жизни. Что же получается? Токсоплазма сводит нас с ума... Но делает это случайно? Очень может быть. Все эти нейромедиаторы, которые использует наша нервная система — серотонин, дофамин, ацетилхолин — гораздо древнее нас.
Еще до того, как жизнь стала многоклеточной, они уже были на Земле. Древние бактерии использовали эти вещества для своих целей. Например, глутамат — это тоже нейромедиатор. А он вообще входит в состав любого белка в природе. Мы всего лишь унаследовали эти нейромедиаторы от предков. И приспособили их, чтобы передавать сигналы между нейронами в нервной системе. Но у нас нет на них монополии — их продолжают использовать всяческие микроорганизмы. Например, ту же леводопу, из которой получается дофамин, умеет производить не только токсоплазма, но и некоторые бактерии в нашем кишечнике.
Так что неудивительно, что паразиты или кишечная микрофлора могут влиять на наше поведение, даже если это не дает им никакой выгоды. Просто так. Когда такое узнаешь, становится страшно. Получается, мы марионетки? Нам кажется, что у нас есть высокие цели, свобода выбора, смысл жизни, любовь к котикам. А на самом деле это какая-то одноклеточная кракозябра сидит внутри и впрыскивает нам коктейль из психотропных веществ. Причем и сама крокозябра не ведает, что творит. Просто в нее эволюционно заложены программы, рассчитанные на то, что она, возможно, попала в мышку, а надофаминенная мышка чаще становится кошачьим обедом.
Ну раз токсоплазма пытается нами воспользоваться, то и мы можем без угрызений совести попользоваться ее хрупким одноклеточным тельцем! Недавно о вышла свежая статья в Nature, где предложили использовать паразита-токсоплазму, чтобы... доставлять лекарства в мозг.
Я писал, что токсоплазма прорывает стенку сосуда и пролезает внутрь мозга? Мы можем научить паразита синтезировать нужную нам молекулу и дать ему сделать свое дело. Авторы исследования говорят, что так можно ввести в мозг даже очень крупные терапевтические молекулы, например, белковые, которые иначе вообще не прошли бы через барьер, из крови в мозг. Конечно, специально заражаться токсоплазмой не самая лучшая идея. Но есть болезни и похуже. И если такая терапия позволит нам их вылечить, можно и рискнуть. Или даже обезвредить паразита, как мы делаем безвредными вирусные векторы — вроде аденовирусного носителя в вакцине «Спутник».
Остался последний вопрос. Как быть с котами? Ведь если есть связь между шизофренией и токсоплазмой, а также между токсоплазмой и котиками... На ум невольно приходит стереотип сумасшедшей старушки-кошатницы. Уж простите. Если что, я не хочу обидеть котопап и котомам. У меня тоже была любимая кошка, Мася. К сожалению, она недавно умерла.
Но если мы докажем, что котовладение реально повышает шансы заболеть... Стоит ли заводить таких друзей? Хороший способ это проверить — посмотреть на людей, которые жили с кошками в раннем детстве. Шизофрения обычно развивается после 16 лет, поэтому так можно исключить влияние самой шизофрении на желание заводить питомцев. То есть можно проследить, что к чему привело.
Итак, ученые из Саудовской Аравии исследовали группу уже взрослых людей. Оказалось, что котик в детстве был у половины пациентов с шизофренией, у половины людей с депрессией или тревожным расстройством... но лишь у четверти людей из контрольной группы, без жалоб на ментальное здоровье. В итоге котовладение повышало риск развития шизофрении в 3,4 раза. К похожему выводы пришли авторы недавнего метаанализа. Его вывод, что среди котоводов по всему миру в два раза больше людей, страдающих шизофренией.
Связь котовладения с токсоплазмой тоже изучали. Например, в 2020 году вышел обзор ситуации конкретно в Эфиопии, где распространенность токсоплазмы одна из самых высоких в мире. И действительно, владение кошками и контакт с ними повышали риск заражения токсоплазмой — не меньше, чем возраст и привычка есть сырое мясо и пить грязную воду.
Может показаться, что это очевидно. Мы же помним, что беременным запрещают чистить кошачьи лотки. А если дома живет кот с токсоплазмой, то рано или поздно все равно заразишься! Попробую всех немного успокоить. Даже если ваш кот заразился токсоплазмой, он после этого будет заразен лишь пару недель, пока выделяются заразные ооцисты. Да, они могут быть опасны еще долго, до полутора лет! Но пока они еще «свежие», им нужно еще где-то сутки, чтобы «созреть». Поэтому, если соблюдать гигиену и вовремя мыть лоток и руки — то в доме их не будет и следа.
Другими словами, кот становится опасным разносчиком токсоплазмы только в том случае, если постоянно ест зараженное мясо, а хозяин не чистит его лоток, или чистит, а потом забывает мыть руки. Это подтверждает исследование, которое провели в Китае. Оказалось, что владельцы кошек, которые просто знают об опасности токсоплазмы, оказываются зараженными гораздо реже, чем котоводы, которые о ней не слышали.
А вот есть такая научнаяа статья под названием «Кто выпустил кошек?» Там установили, что кошки, которым дают погулять на улице, почти в три раза чаще заболевают токсоплазмозом, чем домашние. И учтите — хотя кошки тоже обычно переживают токсоплазмоз легко, у них бывают осложнения. А при беременности последствия такие же ужасные, как у людей. Поэтому я прошу любителей котов меня не хейтить, это просто предупреждение. Домашние котики чаще всего безопасны. Но и в стереотипе про безумного кошатника с толпой грязных котов, по-видимому, есть зерно правды.
Вы наверно заметили, что я ни слова не сказал о связи токсоплазмы и любви к котам. Есть такое полушуточное предположение: мол, мы так одержимы котами и всё им прощаем именно потому, что у нас в голове мозговой паразит. Крыс он гонит прямо в пасть кошке — может, и нас заставляет о ней заботиться! Это могло бы быть любопытной гипотезой, но ничего такого учёные не нашли. Кошки просто очень хорошо манипулируют нашей тягой к милоте.
И напоследок вернемся к истории с доносом в прокуратуру. Мы видели, что токсоплазма способна манипулировать поведением человека. Например, она усиливает суицидальные импульсы и повышает риск шизофрении. А давайте еще раз вспомним, что такое шизофрения. Это железная уверенность в реальности фантазий, против которой бессильны факты и доказательства; это реалистичные видения и голоса свыше; это полное ощущение, что ваши мысли видит насквозь некое высшее существо. Ничего не напоминает?
И если токсоплазма действительно повышает риск шизофрении, то получается, что какой-то одноклеточный паразит заставляет человека слышать голоса, видеть галлюцинации, верить в идеи, которые он не может проверить. То есть полностью меняет его картину мира. И болеет этим паразитом не меньше трети всего населения земного шара. А в некоторых странах и большинство людей. А раз такое возможно, чем это отличается от гипотетического паразита, который, предположительно, заставляет людей делать странные ритуалы?
Авторам «Царьграда» моя гипотеза показалась оскорбительной. Достойной уголовного преследования. Мы предположили, что некий паразит может заставлять нас делать нерациональные вещи и выполнять ритуалы, повышающие риск передачи инфекции. Но мы видим, что так и происходит. Причем токсоплазма порой заставляет людей делать куда более стрёмные вещи — например, выходить в окно. Но даже я признаю, что токсоплазмой можно объяснить лишь малую толику безумия, которое творится в нашем мире. За остальное несут ответственность сами люди.
• Вена — 14 октября
• Дюссельдорф — 17 октября
• Барселона — 19 октября
• Лимассол — 21 октября
• Ереван — 17 ноября
Если YouTube медленно загружает — смотрите здесь.
Грядёт страшная катастрофа — люди тупеют. Через пару сотен лет останутся одни идиоты! Всё дело в естественном отборе, в котором всё чаще побеждают люди с низким IQ.
Именно таким пугающим многие видят будущее человечества. Но грозит ли нам интеллектуальная катастрофа? Давайте разбираться. В 2006 году в прокат вышла комедия «Идиократия». Главная идея фильма проста: люди, которые умны и образованны, неохотно и поздно заводят детей, поэтому оставляют меньше потомства. А не очень умные люди, которые о существовании контрацепции даже не подозревают и не планируют заботиться о потомстве, бездумно плодятся. И в итоге глупые получают численное преимущество над умными.
Мало того, научно-технический прогресс ещё и помогает не очень образованным людям выживать. Например, глупый человек прыгнул через забор и повредил причинное место. А учёные и врачи собрались и пришили всё обратно. И все! Можно снова плодить детей. Которые тоже будут прыгать через забор.
Получается, умные люди — изобретатели, инженеры, врачи — сами роют себе могилу? Давайте разбираться, куда в интеллектуальном плане катится род человеческий. Правда ли, что у глупых людей возникло эволюционное преимущество — как скоро они всех победят?
Прежде чем сказать, глупеет ли человечество, мы должны научиться эту глупость измерять. Итак, как это сделать? По среднему размеру мозга? В ходе эволюции мы действительно нарастили объем мозга и стали умнее наших далеких предков.
На самом деле, хотя размер мозга имеет значение, даже с маленьким можно ого-го чего добиться. В 2007 году в журнале «Ланцет» вышла статья под кратким названием: «Мозг белого воротничка».
В ней описали случай мужчины с гидроцефалией — это когда в мозге обнаруживают избыток жидкости. В детстве пациент получил нужную операцию и вырос обычным человеком — закончил школу, женился, завел двоих детей. Но в 44 года он обратился ко врачам с легкой слабостью в левой ноге. Во время обследования те обнаружили, что внутри его мозга... практически нет мозга: почти весь его объём заполнила жидкость.
Тем не менее, мужчина вполне успешно исполнял свои обязанности. Он активно работал... чиновником. Хоть и показывал коэффициент интеллекта IQ ниже среднего — около 75 баллов. Известны также случаи, когда человеку удаляли целое полушарие — и он в общем сохранял нормальные функции. Со стороны нельзя было сказать, что половина головы у него пустая.
И все же в 2019 году вышел большой метаанализ, который подтвердил, что размер имеет значение. Высокий IQ сопутствует увеличенному мозгу (разница небольшая, но заметная). Но что тут причина, а что — следствие? Может, наоборот — мозг растет от чтения, исследовательской деятельности, изучения звёздного неба? Была же история, когда оказалось, что у лондонских таксистов увеличена часть гиппокампа, которая хранит пространственную память. А вот у водителей автобусов эта часть была не такой большой — они же ездят по одним и тем же маршрутам и подробную карту города запоминать не обязаны.
Но в метаанализе всё было несколько иначе: ученые не просто мерили людям IQ. Они нашли генетические варианты, которые предсказывают высокий IQ. Оказалось, что эти же генетические особенности связаны с увеличенным размером мозга. Произвели проверку и в обратную сторону: показали, что те генетические маркеры, которые говорят о большем размере мозга, связаны с успехами в образовании.
Ученые пришли к выводу, что и размер мозга, и общий интеллект в ходе эволюции росли вместе — потому что интеллект был почему-то эволюционно выгоден. Да уж, интересно почему? Но все же зависимость интеллекта от размера мозга внутри нашего вида небольшая. Поэтому судить о человеке по размерам его мозга, пожалуй, не стоит.
Ок, если не по размеру мозга измерять возможное оглупление человечества, то как? На ум приходят IQ-тесты. В их адрес можно найти справедливую критику. Во-первых, умение проходить IQ-тесты можно специально натренировать: во второй раз люди проходят тест несколько лучше, чем в первый. Также на результат влияет культурный контекст: человек из другой культуры, нежели составители теста, может решить некоторые задачи хуже — просто потому, что в его культуре отсутствуют объекты и понятия, которые очевидны для составителя. А ещё люди могут быть умными «по-разному». Непонятно, насколько корректно описывать весь интеллект одним-единственным числом. Короче, есть такое мнение: «IQ-тест измеряет то, насколько хорошо ты проходишь IQ-тест». Но это не совсем так.
Тут надо сразу оговориться: чаще всего мы судим об IQ-тестах, пройдя в интернете их простенький развлекательный вариант из 30 вопросов. Но настоящие тесты на IQ — большие, с множеством вопросом. Вокруг них построена целая наука. В таких тестах есть разные модули. Одни оценивают вербальный интеллект, другие — умение решать задачи на логику, третьи — на пространственное мышление и так далее.
Разумеется, хороший тест на интеллект должны предсказывать какие-то еще независимые характеристики человека, которые мы ассоциируем с умом, смекалкой и интеллектом в повседневнсоти. И, действительно, есть масса исследований о том, что у людей с высоким IQ в среднем выше уровень образования и более успешная карьера. Причем в ряде работ оценку производили не задним числом. Сначала детям измеряли IQ, а позже уже в зрелом возрасте оценивали академические и прочие успехи. И IQ тест их предсказывал гораздо лучше броска монетки.
Также известно, что люди с высоким IQ в среднем более богаты. Они в среднем реже прибегают к силовым методам решения проблем, то есть меньше дерутся У них в среднем лучше развита память.
По-видимому, результаты IQ-тестов неплохо соотносятся и с нашими интуитивными, субъективными оценками интеллектуальных способностей знакомых и коллег. Лично я впервые прошёл IQ-тест во время учебы на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ. На курсе психологии нам провели полноценный тест по всем правилам. Тест проводили в рамках исследования. В частности его авторы сравнили, как ум человека оценивают люди из его окружения — и насколько эта внешняя оценка совпадает с результатом теста.
И вроде бы те, кого мы между собой называем «умными» — пообщавшись с ними, поработав и так далее, — действительно в среднем набирают больше баллов. Конечно, различить людей, у которых 110 и 120 баллов по тесту, будет сложно. Но если вы пообщаетесь полчасика с людьми, у которых IQ 90 и 130 — вы, скорее всего, поймете, кто есть кто.
Какие еще есть аргументы в пользу использования IQ-тестов для оценки нашего всеобщего оглупления? Интеллект нельзя померить одним числом, но исследования показывают, что различные показатели «ума», как правило, положительно коррелируют друг с другом. Мы часто говорим: вот это физик, а это лирик, кто-то силён в одном, кто-то в другом. Но оказывается, что всё равно в среднем разные проявления интеллекта положительно связаны друг с другом. Если твой мозг хорошо соображает в одной сфере, то выше вероятность, что и с другими задачами ты справишься лучше среднего. То есть существует некая условная общая сила ума. Несмотря на то, что все мы разные, имеем разный опыт, навыки, проявляем разные таланты.
Поэтому появилась метрика под названием G-фактор, или «общий интеллект». Эта характеристика довольно хорошо предсказывает способности человека в самых разных областях применения разума. А если есть общий параметр «умности», должно быть реально его измерить — IQ-тестом или как-то ещё, пусть и с погрешностями. Причем оказалось, что G-фактор — вещь наследуемая. Ученые провели близнецовые исследования: оказалось, что вклад генетики в G-фактор примерно 50%. Похожую роль генетика играет и в успехах в образовании.
Кстати, интересный факт: с возрастом близнецы сближаются друг с другом по IQ. Видимо в детстве ребенок больше зависит от среды, он часто не может выбирать, чему учиться и чем заниматься. Одного отдали в спортивную секцию, а другого заставили играть на фортепиано. Один получил травму и пропустил первое полугодие, а второго записали в кружок. Поэтому у близнецов могут заметно различаться успеваемость, способности и так далее. А в зрелом возрасте, когда близнецы уже имеют достаточно возможностей самостоятельно себя проявить, выбирать, чем заниматься, чему учиться, с кем общаться, — генетические особенности выходят на первый план.
И разница заметная: по некоторым данным, наследуемость IQ повышается с примерно 20% в детстве до 80% в позднем возрасте. Даже если человек жил в тяжелых условиях, дома было мало книг, а мама всё время смотрит телевизор... как в фильме «Матильда», например... то с возрастом врождённая любознательность всё равно возьмет свое. Скорее всего.
Ладно, перейду к хорошим новостям: на самом деле мы не глупеем. У учёных есть эмпирические свидетельства в пользу того, что как минимум в краткосрочной перспективе интеллект людей, измеренный тестами, продолжает расти. И сейчас мы в среднем умнее, чем наши мудрые предки. К вопросу, кстати, о традиционных ценностях. Современный рост IQ ученые оценивают примерно в 2–3 пункта по 100-балльной шкале за десятилетие. Об этом говорит сразу несколько крупных метаанализов.
Чтобы вы понимали: коэффициент интеллекта — это относительная величина. Мы прогоняем через тест огромное количество людей, а потом раскладываем результаты на графике. Значение в «100 баллов» выбирают как средний интеллект в исследуемой популяции. Раз в несколько лет учёные заново нормируют тесты: то есть задачи остаются те же, а вот баллы IQ, которые за них дают, немного сдвигаются. Так, чтобы метка в 100 баллов правильно отражала текущий «средний интеллект по больнице».
И эта метка все время сдвигается вниз. То есть если мы возьмём самого заурядного человека из современности, скажем, со средним IQ в 100 баллов, и отправим его на 50 лет назад в прошлое — то там он наберет в тесте почетные 120 баллов. Представьте, если мы телепортируем современного школьника, который готовится сдавать ЕГЭ, в гости к великому Аристотелю. Да Аристотель офигеет от его ума, а Диоген спрячется в бочку. В «Идиократии» было нечто похожее, но, наоборот: главных героев выбрали для эксперимента по криозаморозке за их обычность — а в мире будущего они оказались главными гениями на планете.
Этот стремительный рост результатов IQ из поколения в поколение назвали «эффектом Флинна», в честь учёного, который обнаружил эту тенденцию.
Надо оговориться, что эффект Флинна воспроизводится не во всех человеческих популяциях — но в очень многих. Причём в разных слоях населения и на очень больших выборках. Например, в некоторых странах десятилетиями поголовно тестировали на интеллект всех призывников.
Казалось бы, хорошая новость. Мы умнеем! Сценарий «Идиократии» опровергнут, эволюция — за интеллект, гомеопаты и астрологи трепещут. Но на самом деле не всё так радужно. Дело в том, что эффект Флинна — полностью социальный и культурный. Вообще 60–70 лет — это ничтожное время по меркам эволюции. К примеру, последний общий предок человека и шимпанзе жил около 5-10 млн лет назад. За последние тысячи лет мы практически не изменились как биологический вид.
Но были и специальные проверки того, насколько эффект Флинна связан с культурой. Учёные взяли несколько поколений семей: бабушки, дедушки, папы-мамы, дети и внуки, всех протестировали на IQ. И оказалось, что эффект Флинна внутри семей такой же сильный, как в целом по популяции. Это и значит, что он был вызван внешними, культурными эффектами, а не естественным отбором. Ведь генетически члены одной семьи очень близки, но младшие поколения все равно поумнели, причем за короткое время. Наверное, поэтому подростки считают себя умнее родителей. А если мы говорим, что у дедушки деменция, то это не потому, что он сдал с годами. У него столько IQ всегда и было, просто эффект Флинна постарался (это шутка, если что).
Скорее всего, эффект Флинна объясняется тем, что повысилось благосостояние и доступ к образованию, дети стали реже голодать и страдать от заболеваний, которые нарушают развитие. Наконец, в последнее время информация стала доступней — и любой человек, независимо от своего окружения, может найти в интернете актуальную информацию о современной биологии, физике, химии и математике. Главное — желание. А ещё раньше читали только скучные книги, а сегодня любой желающий может найти массу полезного контента, подписывайтесь!
А если серьёзно, сложно сказать, какой именно фактор сделал нас умнее. Но мы знаем, что эффект Флинна проявляется прежде всего там, где есть социальный прогресс. В общем, наличие эффекта Флинна вовсе не означает, что мы умнеем как вид. Он ничего не говорит об эволюции наших генов. А эти две стрелочки могут сходиться.
Мы можем одновременно умнеть за счет культуры — и глупеть генетически, как вид, по сценарию «Идиократии». При этом эффект Флинна будет успешно маскировать генетический эффект отупения и внешне компенсировать его. Пока не будет поздно. Слишком поздно.
Как тогда измерить именно генетическое отупение? Использовать машину времени и отправить младенцев из современности воспитываться к средневеновым крестьянам, а потом замерить их IQ?
Увы, машины времени ученые пока не изобрели. Но есть метод, позволяющий косвенно оценить, куда направлена эволюция наших генов прямо сейчас.
Как ни странно, в «Идиократии» показан очень правильный эволюционный критерий. Нужно просто посмотреть, кто сегодня оставляет больше потомства: люди с высоким или низким IQ? Только не на отдельных примерах, а на большой статистике. И тут у меня для вас плохая новость. Вполне возможно, что генетически человечество действительно тупеет.
Ещё в 80-х и 90-х годах учёные начали исследовать зависимость между уровнем IQ и фертильностью. С тех пор этот вывод подтверждался в разных странах — Великобритании, Греции, США. Специалисты несколько раз показали, что в среднем у людей с более низким IQ больше детей. А мужчины и женщины с IQ повыше не спешат заводить потомство. Звучит это очень печально.
Но может есть надежда? Вот представьте, что есть два генетически идентичных брата-близнеца. У обоих есть удачные генетические варианты, связанные с одаренностью, высоким IQ, любознательностью, тягой к знаниям... И допустим, что братья росли порознь. Один близнец попал в идеальную среду, пошёл в Гарвард, у него в тестах на IQ всё очень хорошо. Но он был слишком занят карьерой, беспокоится о мировых проблемах и... предохранялся, поэтому детей у него мало. Совсем как в «Идиократии».
А его брат в юности пробовал наркотики, связался с плохими людьми, сел в тюрьму, где его научили «жизни». Потом он вышел, в итоге у него 10 детей от 10 женщин, которых он напоил. Он не получил образования, трудился на низкооплачиваемой работе, получил несколько травм головы на зоне — и по тестам у него низкий IQ. Тут фактор среды сильно перевесил врождённые способности. Но гены-то у этого брата такие же. И свои «умные» гены он передаст многочисленному потомству.
То есть в рассуждениях из «Идиократии» вроде бы есть логическая ошибка. Когда исследование говорит: «люди с низким баллом IQ рожают больше детей» — это не обязательно значит, что размножились только носители условных «генов глупости». Мы не знаем — может, им со средой не повезло. На их гены в этих работах никто не смотрел.
К сожалению, этот лучик надежды переломило исследование 2017 года из Исландии. Там на гены как раз посмотрели. И ужаснулись. Взяли 130 тыс. исландцев и стали искать у них конкретные генетические варианты, которые предсказывают высокие достижения в образовании. В выборку попали люди, рожденные в период с 1910 по 1990 гг. Оказалось, что генетические варианты, ассоциированные с успехами в образовании, действительно выпиливались из популяции.
Их носители предпочитали оставаться бездетными. То есть учёные увидели хоть и медленное, но статистически достоверное генетическое отупение. И вот это уже сложно оспорить. Как минимум в случае исландцев. Но ими дело не ограничилось.
Похожее исследование провели в США — и подтвердили этот эффект. Причём с интересной деталью. Оказалось, что у умных детей меньше просто потому, что они позже начинают размножаться. Поэтому и не успевают произвести много потомства. Встревоженные ученые даже озаботились вопросом: не связано ли это с тем, что сперма у умных мужчин какая-то не очень качественная? Было и такое исследование! Но нет, сперма у умных мужчин неплохая и качественная (есть пруфы!). Просто они тратят много времени на образование и карьеру.
Но можно ли данные из Исландии и США перенести на всё человечество? К счастью, нет. Человечество очень разнообразно. И, по-видимому, кое-где люди всё-таки не глупеют. Так, в 2009 году вышло исследование, в котором учёные взяли реестр шведских призывников, которых много десятилетий подряд тестировали на IQ. И там всё вышло наоборот. Чем больше был IQ, тем больше впоследствии было детей у призывника. Чем это вызвано? Возможно, отличиями Швеции в области социальной политики. Возможно, именно у призывников все иначе устроено. Я не знаю. Но я к тому, что нет единого человечества: страны достаточно сильно отличаются друг от друга.
И вот это даёт надежду. Допустим, сейчас в какой-то отдельной стране или странах человечество действительно генетически глупеет. Любителей думать своей головой отправляют по миру на философских пароходах, устраивают на них гонения. Предлагают женщинам рожать вместо получения образования. Но через социальные реформы, с учетом успешного опыт соседей, этот тренд можно будет обратить вспять.
У меня для этого есть любимая иллюстрация — наглядный симулятор эволюции машинок. Программа называется BoxCar2D. В ней у каждой машинки случайным образом генерируются и соединяются колёса и корпус. Чем дальше машинка проедет, тем больше у неё шансов оставить потомство. Со временем машинки эволюционируют и едут всё лучше и лучше. Без всякого там творца. Но вот в чём прикол: для этих машинок можно нарисовать разные трассы. Одна трасса плоская. Другая — холмистая. На третьей едем вниз по склону, где нужно не разбиться о препятствия. Четвёртая — каждый раз разная, на ней нужно быть готовым ко всему. И вот что оказывается: вроде бы механизм эволюции один и тот же, да и старт у машинок одинаковый. Но на разных трассах через тысячи поколений получаются совершенно разные конструкции. Одна машинка вся обросла колёсами для спусков кувырком. Равнинная машинка стала скоростным мотоциклом. Третья отрастила себе колесо, чтобы переваливать через ухабы.
Поэтому куда идёт эволюция — зависит от условий среды. И этой средой для человека выступает в том числе наши культура и общество. И это то, что мы можем изменить.
В заключение я хочу привести один очень оптимистичный факт, который многих из вас может порадовать. Сапиосексуальность, то есть сексуальное влечение к уму — это научная реальность. Исследования показывают, что люди чаще вступают в отношения с партнёрами, близкими к ним по интеллекту. Соответственно, люди с высоким G-фактором чаще предпочитают таких же людей. А значит, скорее всего, тоже имеющим такую генетическую предрасположенность. И что важно — это обстоятельство влияет на выбор сильнее, чем многие другие качества человека.
Есть в генетике такой параметр — assortative mating. Его можно описать как «степень привлекательности похожего». Предпочитают ли блондины блондинов, а истеричные люди истеричных? По большинству признаков этот параметр положительный, то есть похожие партнёры притягиваются. Эта концепция — камень в огород соционики, где продвигают народную мудрость, что притягиваются «противоположности». Это был бы отрицательный assortative mating. А генетика говорит нам обратное.
Так вот, у интеллекта параметр assortative mating равен 40%. И это очень много. Этот фактор в два раза сильнее, чем рост и вес — и даже сильнее, чем наличие или отсутствие ментальных расстройств. Другими словами, встретить пару «худой—толстый» или «спокойный—истеричный» гораздо проще, чем очень контрастную пару «не по уму». Если что, 100% — это значит, что ты никогда не выберешь другого партнёра. Допустим, голубоглазые будут встречаться только с голубоглазыми — и больше ни с кем ни при каких обстоятельствах. Не променяют партнера даже на Илона Маска, даже на Джонни Деппа. Даже на Эмму Уотсон. Поэтому 40% — это действительно огромный результат.
А это значит, что у интеллекта есть эволюционный драйвер, который подталкивает умных создавать детей с умными. Возможно, такая сапиосексуальность, такой половой отбор, сыграл роль в эволюции нашего вида в те времена, когда ум действительно давал огромное конкурентное преимущество. Причём полагаться человеку приходилось именно на свой ум — а не на ум врачей, которые всегда готовы пришить на место палочку-размножалочку.
Итак, в «Идиократии» нам предложили ситуацию, где чисто генетическая эволюция почему-то полностью меняет культуру. Но на самом деле всё наоборот: человеческая культура — это мощная среда для эволюции. Это та трасса, к которой адаптируются наши машинки. И в разных культурах эволюция человека будет направлена в разных направлениях. Поэтому от того, какую культуру и какое общество мы создаем, от того, насколько в ней поощряются ум и любознательность, и будет зависеть эволюционная судьба нашего вида. Вот зачем нужна борьба с мракобесием.
📑 Источники ↗
Подписывайтесь на мои соц. сети
Если YouTube медленно загружает — смотрите здесь.
В 2004 году в маленьком американском городе Уилмингтон произошла трагедия. Трехлетнюю девочку по имени Райли Фокс нашли в лесопарке мертвой. Полиция сразу заподозрила в убийстве ее отца, Кевина Фокса. Однажды его задержали в участке и заставили пройти проверку на детекторе лжи, полиграфе. Затем Кевину сказали, что на полиграфе проверку он... провалил. Теперь полицейские были уверены: мужчина — убийца! Наутро, после четырнадцати часов допроса, давления и манипуляций, Кевин не выдержал и признался, что похитил, изнасиловал и утопил любимую дочь. Восемь месяцев он провел в тюрьме. За преступление, которое не совершал. Позже нашли настоящего убийцу.
Чтоб вы понимали, прямо на месте преступления нашли заляпанные грязью ботинки, на которых была написана фамилия настоящего убийцы. Который, кстати, в ту же ночь ограбил дом по соседству, где обогатился 40 долларами. Но полицию это не заинтересовало, они увлеклись психологическими играми с несчастным отцом. Местной полиции так понравилась версия про отца-убийцу, что они даже отменили тест на ДНК, который затребовали сотрудники ФБР. Анализ ДНК провели только через 8 месяцев, по настоянию адвокатов мужчины. Результат не оставил сомнений в невиновности Кевина Фокса. Его немедленно выпустили из тюрьмы и сняли с него все обвинения. А вот полиграф, наоборот, помог полицейским оказать на подозреваемого психологическое давление — и выбить из него ложное признание.
Нужны ли детекторы лжи?
Распознавать ложь очень важно. От этого может зависеть наша жизнь и карьера. Поэтому люди изобретали разные версии детекторов лжи с начала времен. В некоторых племенах Африки шаман задавал человеку острые вопросы и нюхал его тело: вспотел — говоришь неправду. В Китае совали в рот сухой рис и смотрели, какой вопрос вызывает повышенное слюноотделение. Ну а всякие «религиозные полицейские» типа Святой инквизиции вообще придумывали явно невыполнимые задания. Например, засунуть руку в кипяток. Обварился? Значит, врешь! В реке не тонешь? Значит, ведьма!
А потом, в начале XX века, появился полиграф.
Это прибор, который прямо сейчас ежедневно определяет судьбы огромного количества людей. Особенно часто это происходит на родине полиграфа, в США. Там с его помощью исследуют служащих федеральных госучреждений и спецслужб. А еще полицейских, пожарных, медиков, даже охранников. Почти в половине штатов исследование на полиграфе может использоваться в суде, хотя и с оговорками. Это огромная индустрия. Каждый год в Америке проводят больше 2 млн проверок — и это обходится примерно в 2 млрд долларов.
Тем любопытней, что во многих странах проверки на полиграфе запрещены к использованию в суде из-за их недостаточной надежности. Например, в Великобритании, Австралии и Германии. В России ситуация неоднозначная. Формально полиграф не может быть доказательством в суде. Но в его действенность верят многие полицейские, следователи и судьи. А доля оправдательных приговоров... сами знаете какая.
Прежде чем разбирать полиграф, давайте поймем, а нужен ли нам вообще этот прибор? Может, мы и так неплохо распознаем ложь? В 2006 году на эту тему вышло исследование под названием «Мир лжи». Его авторы изучали, какие признаки обычно ассоциируют с враньем, какие из этих стереотипов универсальны, а какие существуют только в отдельных культурах. Всего учёные опросили больше двух тыс. человек из 58 стран.
Оказалось, что по всему миру люди уверены, что лжецы отводят глаза, нервничают, беспокойно ерзают, моргают, мычат, краснеют, говорят длинно и путано. Вот только есть одна проблема... Это неправда. Множество исследований показывают, что говорящие правду отводят взгляд не реже, чем вруны. А движения вроде почесывания в затылке и мычания почти не связаны с честностью. И, тем не менее, нас все время учат, как с первого взгляда распознать ложь. И меня это очень бесит. На YouTube есть огромное количество каналов с миллионами просмотров, где такие рассуждения высасывают из пальца. Самозваные эксперты анализируют «невербалику» в новостях: «Взгляните, политик закинул ногу на ногу, значит, сейчас будет врать». А вот известный человек будто бы радуется трагедии! Значит, он в курсе заговора! А вот вам инструкция, как точно распознать, изменяет ли вам девушка.
На эту тему есть сериал — «Обмани меня». Конечно, это художественное произведение. Но там приводится много якобы научных фактов о признаках, по которым можно легко распознать ложь. Сериал якобы основан на реальной науке, а в консультантах был профессор психологии Пол Экман. Но, если честно, в сериале хорошей науки практически нет.
В 2010 году ученые поставили забавный эксперимент: одной группе показали серию «Обмани меня». Другой — серию детектива «4исла», где не ловят на лжи, а раскрывают преступления с помощью математики.
Третьим не показали ничего. Затем испытуемым показали 12 интервью — шесть содержали только правду, а в шести говорили ложь. Решили проверить: а вдруг люди, которые посмотрели «Обмани меня», переняли научные методы у вымышленного доктора Лайтмана и теперь намного лучше распознают ложь? Но оказалось, что все наоборот. Такие испытуемые стали больше ошибаться. Они чаще объявляли истинные интервью обманом. Ну а ложь отличали не лучше, чем остальные. Это похоже на эффект Даннинга-Крюгера: когда люди, которые кое-чего нахватались, отращивают большую самоуверенность.
В итоге доля правильных угадываний у всех групп была около 60%, чуть лучше случайных 50%.
Надо сказать, это не такой уж плохой результат. Во многих других экспериментах по выявлению лжи люди справлялись еще хуже. Есть большой метаанализ 2006 года «Кто лучше всех поймает лжеца?» В нем обобщили 108 экспериментов на 16 тыс. людей. Авторы пытались понять, какие качества человека сильнее всего влияют на способность распознавать обман. Что это — профессия, опыт, талант?
Средняя доля распознанной лжи во всех опытах оказалась 55% в условиях бинарного выбора. То есть это всего на пять процентов лучше, чем случайное угадывание — как если бы испытуемые просто бросали монетку. Самое смешное, что те, кого можно назвать «профессиональными детекторами лжи» — полицейские, таможенники, детективы, судьи и психологи — распознавали ложь не лучше, чем какие-нибудь обычные студенты. Угадайте, кто справлялся хуже всего? Детективы. А лучший результат оказался у учителей. Правда, есть нюанс. С учителями был всего один маленький эксперимент, на выборке из 20 человек. Поэтому уверенно сказать, что Марьиванну нужно натравливать на маньяков и террористов, пока нельзя. Но я уже жду сериал Lie to Me про вашу училку.
А как насчет личных качеств человека? Я уже предвижу комментарии в духе: «А вот я сразу вижу вранье!» Спешу предостеречь от чрезмерной гордыни. Тот же метаанализ показал, что самоуверенность человека, вера в способность «всех видеть насквозь» никак не влияет на результат. Также не имеют значения опыт, образование, возраст и пол. Все участники эксперимента угадывали вранье в среднем чуть лучше рандома. И это при том, что у таких экспериментов в каком-то смысле более низкий уровень сложности, чем в жизни. Обычно в тестах ровно половина информации ложь, а половина — правда. И вас заранее предупреждают: «Где-то тут будут обманывать!» Это сильно облегчает задачу.
В реальной жизни лжецы чаще всего не врут через слово — если только у них не мифомания, pseudologia fantastica. Да, бывают патологические лжецы, которые вообще не контролируют, что они несут. Как правило, это люди с антисоциальным, истерическим или нарциссическим расстройством личности. А обычные обманщики говорят в основном правду, примешивая к ней капельку лжи. И не предупреждают вас, когда ее ждать. Так что в реальности отличить ложь от правды может быть гораздо сложнее.
Расскажу про одного американского специалиста по имени Даг Уильямс. Он посвятил полжизни полиграфу, провел тысячи тестов для полиции Оклахома-Сити. А потом стал знаменитым критиком этой методики. Благодаря его активизму в 80-х в Америке даже приняли закон, который запретил частным фирмам проверять на полиграфе сотрудников. Уильямс не просто критиковал прибор, а показывал, как просто его обмануть.
В 2013 году из-за Уильямса возник скандал. Мужчина за вознаграждение учил всех желающих обманывать прибор. Агенты Министерства внутренней безопасности провели спецоперацию. Они под прикрытием обратились к Уильямсу. Дескать, помоги нам обмануть полиграф, чтобы устроиться на таможню. Он согласился... и сел в тюрьму на два года. Следует признать, что Уильямс действовал небезупречно. Например, агенты признались ему, что продавали наркотики. Один утверждал, что во время работы полицейским совратил малолетнюю. И все же то, как мы воспринимаем проступок Уильямса, явно зависит от нашей оценки эффективности полиграфа.
Допустим, прибор вообще не работает, как утверждает Уильямс. Тогда получается, что ему дали срок за то, что он научил людей обманывать бесполезную железку. Это как научить людей варить неработающий наркотик. Или незаконно вооружить террористов особо крупными мягкими игрушками. Вот у меня есть книга о защите от темных искусств — про оборону от магов. Я там рассказываю, что магии не существует, поэтому лучшая защита — в нее не верить. Представьте, что меня арестуют и посадят за раскрытие тайной методики, которая позволяет людям скрывать преступления от экстрасенсов-детективов.
Ну а если полиграф работает, тогда вроде бы Уильямсу вынесли справедливый приговор. Так где же истина?
Как обычно, все проверяется наукой. Полиграф буквально значит «много записывающий». Это устройство, которое подключается к человеку и отслеживает несколько физиологических параметров:
— Гальванический потенциал кожи. Когда человек нервничает, он потеет, и ток лучше проходит;
— Пульс и частоту дыхания;
— В некоторых версиях таких приборов дополнительно измеряют кровяное давление. А иногда даже наблюдают за расширением зрачка.
Но все люди разные. И нет единого «дыхания лжи» или «пульса правды». Поэтому в классическом методе каждый сеанс на полиграфе начинается с калибровки. Оператор просит вас правдиво ответить на ряд невинных вопросов: как вас зовут, сколько ушей у Чебурашки, какой сегодня день недели... Работает ли гомеопатия...
Так полиграфолог устанавливает «базовую линию»: создает своего рода «портрет» вашей правды, как она выглядит на графиках. Предполагается, что дальше оператор сможет отличить ложь, увидев резкое отклонение от этой «базовой линии». И уже здесь скрывается фундаментальная научная проблема полиграфа. Предполагается, что произнесение лжи, и только лжи, создает у человека явную физиологическую реакцию. Учащается дыхание и сердцебиение, усиливается потоотделение.
Но у человека нет такой специализированной реакции именно на собственную ложь. Полиграфолог на своем экране видит только одно: человек волнуется. Эту реакцию может вызвать любой стресс, не только из-за лжи. Например, вас спросили: «Любите ли вы молоко?» Казалось бы, простой вопрос. И вы честно отвечаете «Да». Но вы заволновались, потому что у вас от молока дикий понос. Или, может, вашу жену увел молочник. Да и спросить про молоко можно по-разному. Можно так: «Вы любите молоко?» А можно так: «Так-так-так... значит, МОЛОКО любите, да? Признавайтесь! Любите или нет?» И вот у вас возникает эта неприятная ассоциация, а полиграфолог видит отклонения приборов. И может тут же заключить, что вы соврали. В результате вы под подозрением, или вас уволили с... молочного завода. Обидно.
Это был ложный положительный результат. Вы говорили правду, а на графике получилось, что соврали. А может ли быть наоборот? Реально ли спрятать реакцию от прибора? Да легко. Во-первых, в некоторых случаях даже не нужно прилагать специальных усилий. Например, человек — нарцисс. Он полностью уверен в своей правоте и доблести, живет в своей альтернативной реальности, в эдаком... бункере. Спросите его: «Это правда, что у вас самые красивые руки, самые выразительные глаза и лучшее чувство юмора?» «Да, конечно! Как вы узнали?» Или спросите экстрасенса, настоящий ли он экстрасенс. Он не стесняясь расскажет вам всю правду.
Но это особые случаи. А сейчас я научу вас секрету, за который посадили Уильямса. Итак, во время записи «базовой линии», когда вы должны отвечать правду, представляйте себе самые ужасные для вас вещи. Например, что за вами бежит Фредди Крюгер.
Если вы антипрививочник, представьте кактус.
Если плоскоземельщик — урок географии. Если гомеопат... меня. Тогда график вашей нормы будет выглядеть по уровню стресса примерно как ваша гипотетическая ложь. А когда придет время врать — наоборот, расслабьтесь и представьте что-нибудь приятное. Нежный прибой на пляже с пальмами, теплый вечер с пушистым котиком.
Правда, полиграфологи знают, как отличить волнение от виновности. Например, оператор может специально задать неприятные вопросы, при ответе на которые испытуемый, вероятнее всего, соврет. Например, проверяют чиновника на большое хищение, а спрашивают: «Брал ли ты когда-нибудь деньги без спроса?». Наверняка брал. А иногда оператор специально просит испытуемого соврать при ответе на несколько вопросов. В результате оператор видит, как на графиках выглядит невинная, нестрашная «маленькая» ложь — потом её можно сравнить с ложью «большой».
Но даже эти методы можно обмануть. Был такой знаменитый двойной агент КГБ Олдрич Эймс.
Он много лет работал в ЦРУ и несколько раз успешно обманывал полиграф. В интервью мужчина раскрыл «суперсложный метод», который ему подсказали его кремлевские кураторы: «Хорошо выспитесь. Позавтракайте. Приходите расслабленным. А самое главное... подружитесь с оператором! Пошутите, включите обаяние. Убедите его, что для вас этот тест простая формальность».
И это еще одна огромная проблема полиграфа. Дело в том, что прибор не выдает каких-то определенных результатов. Нет «красной линии», за которой однозначно загорится лампочка «ложь». Все решения принимает человек, опираясь на свой опыт и чутье. И он же выбирает вопросы и направляет ход интервью. А значит, он может как вызвать у вас стресс, так и успокоить. Это не очень здорово, ведь все, что тест измеряет — это степень волнения!
Представьте, что кто-то нежно говорит вам: «Я тебя убью, я тебя убью...» Вроде волноваться не надо. А потом вдруг: «Я тебя люблю!» Криком! И сразу стресс. То есть даже от интонации вопроса или утверждения может зависеть результат.
Но операторы уж точно не предвзяты! А значит, если взять сырые данные проверок на полиграфе и показать их множеству независимых экспертов-полиграфологов, их мнения совпадут. Совпадут же?
У меня для вас есть одна история. Есть такой секретный документ ЦРУ «Стабильность результатов полиграфа у разных операторов». Уже рассекреченный, если что. Все как полагается, с замазанными секретными словами и так далее. В нём — выводы по итогам эксперимента. В исследовании участвовали тридцать мужчин и женщин, и полиграфологи провели с ними восемьдесят с лишним тестов. Если что, это были реальные расследования ЦРУ.
А потом полученные на полиграфе данные стали рассылать другим полиграфологам. Те ничего не знали: ни что сказали испытуемые, ни результат расследования, ни мнения других экспертов. Даже сами вопросы им не показывали. Специалистов попросили определить одну простую вещь: какие ответы вызвали сильную эмоциональную реакцию. То есть какие ответы они бы пометили как возможную ложь. Таких опросов сделали больше четырех тысяч. И вот результат: на абсолютно одинаковых данных совпадение между вердиктами полиграфологов было... не более 70%.
Обратите внимание: семьдесят процентов — это не результаты полиграфа. Это не точность определения лжи. Это то, насколько часто эксперты соглашались друг с другом в самых базовых оценках. Это примерно два раза из трех. Поэтому в отчете ЦРУ и резюмируют, что «результаты очень плохие».
Тут надо понять одну вещь. Если у вас надежность методики, то есть стабильность результатов, менее 70%, то и в реальности точность определения лжи не может быть выше этого уровня. А это без учета того, что волнение, которое детектирует прибор, не всегда связано с попытками солгать.
Когда я начал углубляться в тему полиграфов, меня поразила одна вещь. Почему научных исследований о детекторах лжи подозрительно мало? И те исследования, что опубликованы в научных журналах, обычно низкого качества или с очень маленькой выборкой. Яркий пример — статья 1993 года.
Ее авторы рассуждали довольно здраво. Они заметили, что во множестве исследований у полиграфа низкая точность. И предложили объяснение: лжецы во время научных проверок не боятся разоблачения, так как врут по поводу придуманных «преступлений», а не настоящих. Оттого и нет яркой эмоциональной реакции. Чтобы это исправить, участников попросили рассказать о себе постыдную правду — неловкую историю из прошлого. А дальше на полиграфе их просили соврать, отрицая свою неловкую историю. Или ответить честно, что не участвовали в постыдной истории другого участника.
При этом оператор полиграфа не знал, где чья история, а участникам пообещали награду, если их не разоблачат. То есть повысили ставки. И вроде бы получилось: авторы пишут, что при этих условиях полиграф работал немного лучше, чем в других исследованиях. Целых 78% правильной классификации! Увы, у этой работы крошечная выборка, всего 23 человека. И так сплошь и рядом: маленькие исследования и не очень впечатляющие выводы.
В 2003 году Национальная академия наук США собрала целый комитет, чтобы разобрать претензии к полиграфу. По результатам вышел отчёт на четыреста страниц, выводы которого были крайне негативными. Вот лишь некоторые из заключений:
1. Нет никакой теоретической базы, которая бы объяснила, почему полиграф распознает именно ложь. С этим согласна и Американская психологическая ассоциация: «Нет никаких свидетельств тому, что какое-либо сочетание физиологических реакций уникально именно для лжи»;
2. Исследования в пользу валидности полиграфа очень низкого качества. Его используют почти сто лет, а наука о нем почти не продвинулась вперед! Подозрительно;
3. В проведенных экспериментах ситуация допроса очень сильно отличается от того, как допрашивают реальных преступников, чья судьба действительно висит на волоске;
4. Даже в тех отдельных случаях, когда полиграф и принес пользу (например, помог выудить признание из истинного преступника), его роль мало чем отличалась от фальшивой машины с лампочками. Сила полиграфа по большей части в том, что люди в него верят и боятся врать с датчиками на теле.
Известной стала фраза председателя этого комитета Стивена Финберга: «Тестирование на полиграфе стало золотым стандартом. Но очевидно, что золото это — фальшивое».
Добавим к этому отчет ЦРУ, и картина становится довольно однозначной. Но защитники полиграфа не сдаются: «Вообще-то не только у нас с надежностью все плохо. Даже врачи в некоторых областях медицины могут не сходиться в диагнозе. Что теперь, медицину отменить?» Но проблема в том, что по результатам «диагноза» с применением полиграфа вас могут посадить в тюрьму. Или принять за шпиона, или уволить с работы. Для такого теста нужна точность как можно ближе к ста процентам.
И тут очень важно сказать о еще одной проблеме полиграфа, которую подчеркнула комиссия американской Академии наук. Дело в том, что многие госслужбы используют детекторы лжи для выявления иностранных шпионов. Например, Министерство энергетики США так отбирает кандидатов для работы на атомных объектах.
Так вот, авторы отчета предложили мысленный эксперимент. Допустим, у вас есть 10 тыс. сотрудников госорганов, и среди них спрятались 10 шпионов.
Скажем, что полиграф выявляет ложь в 90% случаев. В этом случае вам придется заподозрить больше полутора тысяч человек! Да, среди них будут 8 из 10 шпионов. Но мало того, что двоих вы упустили... как вам отыскать эту «омерзительную восьмерку» среди полутора тысяч лояльных служащих? Это же иголка в стоге сена.
Но допустим, вы поняли, что это нереально. Давайте тогда «брать под колпак» только сотрудников с самыми плохими результатами теста. Так, чтобы под подозрением оказались всего 40 человек из 10 тыс. Можно даже их всех уволить, от греха подальше. Но вот беда: согласно подсчетам авторов, в эти 40 попадут всего два шпиона. А остальные восемь продолжат воровать секреты и саботировать работу.
Когда полиграф используют в уголовных делах, эта проблема не так заметна. Там среди проверяемых довольно много настоящих преступников. Поэтому, даже если тест неточный, он будет чаще попадать в цель. А вот шпионы встречаются очень редко. Поэтому шанс полиграфолога ложно обвинить человека гораздо выше, чем найти шпиона. На каждое попадание будет приходиться 200 промахов. И это если допустить, что точность полиграфа достигает 90%. А мы уже говорили, что в экспериментах она гораздо ниже — 60–70%.
Короче, использовать полиграф для поиска шпионов или проверять кандидатов на ответственную вакансию непрактично. И это подтверждалось на практике. Например, тот самый «крот» Советского Союза в ЦРУ Олдрич Эймс, который советовал перед проверкой выспаться и подружиться с оператором, дважды успешно проходил тесты на полиграфе. Притом Эймс успел сдать кэгэбэшникам всех агентов, которых знал, сорвал больше ста операций и получил за это больше четырех млн долларов. Он успешно скрывал от ЦРУ брак с колумбийской женой, пьянствовал и проваливал задания, покупал за наличные шикарные дома, машины и костюмы, даже нанимал слуг, его базовые расходы во много раз превышали официальную зарплату. И несмотря на это, для его поимки потребовалось 8 лет!
Поэтому, когда вы слышите истории про всезнающие и всевидящие спецслужбы, не всегда стоит им верить.
В отчете американской Академии наук есть очень важная формулировка: «Нет оснований ожидать, что проверка на полиграфе может иметь крайне высокую точность». Действительно, нужна «крайне высокая точность», чтобы считать проверку на полиграфе беспристрастной научной экспертизой, по результатам которой можно выносить человеку приговор.
Не 60%, не 80, даже не 95, а выше. Иначе из раза в раз будут случаться драмы вроде истории с отцом Райли Фокс.
И хотя критика в адрес отчета Академии наук существует с 2003 года, его до сегодняшнего дня так никто и не опроверг. Твердых доказательств эффективности полиграфа всё ещё не появилось. И это редкий случай, когда документ ЦРУ выглядит научнее, чем любые научные публикации по теме.
Чего мы хотим от полиграфа? Чтобы бесстрастная машина рассудила людей. Про это есть интересная история. Был такой американец, Молтон Марстон, который называл себя «отцом полиграфа».
Во многом благодаря ему прибор стали использовать по всей Америке. Но ещё Марстон известен тем, что создал персонажа комиксов «Чудо-женщину». Главное оружие этой амазонки — «Лассо истины». Если им заарканить человека, то он будет говорить только правду.
Вообще с этим персонажем связано много интересного. Марстон был солидарен с феминистками и сделал Чудо-женщину достойным аналогом Супермена, чтобы девочкам было на кого равняться. Но в то же время он был увлечен BDSM, и в комиксе то супергероиня связывала врагов и доминировала над ними, то наоборот.
Но я отвлекся. Так вот, полиграф должен был стать таким «Лассо истины». А превратился в лассо товарища майора. Но что, если настоящее лассо истины все-таки можно создать?
Например, в отчете Американской психологической ассоциации упоминаются исследования, где пытались детектировать ложь с помощью томографа. При этом некоторые ученые утверждают, что обнаружили определённые области в мозге, которые активируются именно в ответ на произнесение лжи. Пока этот метод не очень удобен и не то чтобы точно работает... но что, если получится?
Можно вспомнить один любопытный эксперимент, который провели в 2011 году. Тогда взяли 330 кандидатов в присяжные. Им раздали анкеты, где утверждалось, что подсудимый врет, причем якобы это подтвердил научный тест. Для одних присяжных этим тестом был полиграф. Для других — аппарат функциональной магнитно-резонансной томографии. А для третьих — замеры температуры лица. В результате чаще всего обвинительное решение выносили присяжные, у которых ложь подтвердил аппарат фМРТ.
Из этого вытекает вывод: чем наукообразнее звучит тест, тем он убедительнее для окружающих. Так что, если кто-то придумает новый высоконаучный детектор лжи, его будет несложно «продать» обществу, как в свое время сделали создатели полиграфа. Причем есть опасение, что никого не остановит, если за прибором не будет «твердой» науки.
А пока одни ищут истину в данных фМРТ лжецов, другие разрабатывают детектор лжи по ЭЭГ, электроэнцефалограмме. Для считывания ЭЭГ человеку надевают на голову электроды, которые приблизительно измеряют активность головного мозга. Авторы одной работы обучили искусственный интеллект на огромном количестве измерений с энцефалографов — и заявили, что смогли достигнуть 90-процентной точности определения лжи.
Правда, методика проверки у них была странная. В тесте людей просили давать непраавильные ответы на базовые вопросы типа «где родился, где учился, как зовут папу-маму, какой номер паспорта, где живешь». Поэтому их результаты могут объясняться чем-то другим. Вполне возможно, что авторы статьи создали детектор фантазии. Ведь испытуемые выдумывали неправильные ответы.
Наконец, в 2023 году вышла статья, где предложили применять ИИ для обнаружения обмана по выражению лица. Нейросеть обучали на больших массивах данных распознавать ложь по микроизменениям в мимике лица.
Прямо как в сериале «Обмани меня», только с помощью компьютера. Авторы утверждают, что уже добились точности в 70%. К этой статье, конечно, тоже есть вопросы. Как минимум потому, что исследователи обучали сеть на видеозаписях заседаний суда с сайта Innocence Project. Это ресурс про людей, которых неправомерно осудили, а потом оправдали. Вроде звучит здорово, исправление ошибок правосудия дело хорошее. С другой стороны, часто это очень спорные дела, в которых порой и не поймешь, где суд был прав, а где ошибался.
И да, создал этот сайт тот самый адвокат, который помог оправдать спортсмена О-Джей Симпсона, обвиннённого в убийстве своей бывшей жены и её приятеля.
Возможно, показания О-Джей Симпсона были бы поданы нейросети как правдивые.
А еще создатели этого метода делают довольно пугающие заявления. Они говорят: «Проблема в том, что люди знают, когда их проверяют на ложь, и могут отказаться от исследования на полиграфе. А мы будем наблюдать за человеком 24 часа в сутки без его ведома! Так можно собрать сколько угодно данных о конкретном человеке — и научиться идеально отличать его правду от лжи».
Вообще уже есть эффективные программы, которые усиливают микродвижения человека и делают их заметными даже на большом расстоянии. Например, они показывают, дышит ли младенец, визуально усиливая расширение груди и румянец на коже. Так же можно вытащить из видеосигнала сердцебиение взрослого. Значит, можно измерить пульс и частоту дыхания оратора на трибуне. Это звучит очень антиутопично, ведь HD-камеры уже висят на каждом шагу. Зашел в магазин, сказал «Опять горячую воду отключили. ОБОЖАЮ наше государство!» А система распознала: это была саркастичная ремарка, то есть враньё. Пятнадцать суток этому господину!
Не хочу вас пугать, но в аэропортах уже устанавливают системы, которые распознают ложь по мимике. Их тестировали в странах ЕС — Венгрии, Латвии и Греции. Компьютер задает вопросы о цели визита приезжим, в том числе беженцам. И на основе анализа выражения их лица назначает им «рейтинг подозрительности». При этом критики отмечают, что систему почти не проверяли, а обучалась она только на белых европейцах. В итоге ее точность очень низкая, она будет только запутывать таможенников. Или, как в случае с убийством Райли Фокс, даст им повод обвинить человека во всех смертных грехах.
Выходит, что, независимо от научности полиграфа и других подобных устройств, в будущем нас могут начать проверять на ложь без нашего ведома, автоматически и на расстоянии. И необязательно на основе научных методов. Но до этого нужно еще дожить. А сейчас можно уверенно сказать, что пока надежного детектора лжи никто еще не создал.
Поэтому давайте начнем с того, что перестанем называть полиграф «детектором лжи» — и не будем использовать его не по назначению. Особенно в тех случаях, когда это может сломать чью-то судьбу. Как в тех странах, где запретили использование полиграфа в качестве доказательства в суде или для проверки на собеседовании.
А еще нам нужно признать, что мы сами очень плохо распознаем ложь. И те, кто гордится умением распознавать вранье с первого взгляда — прежде всего лгут сами себе. Чаще всего это просто подозрительные люди, которые видят ложь повсюду, даже в чистой правде. Сразу вспоминается, сколько раз раскрывали мою «ложь». Говорили, что я агент фармкомпаний, масонов, Monsanto, госдепа и даже Кремля.
Таким людям я хотел бы кое-что напомнить. Согласно исследованиям, самые недоверчивые и подозрительные личности, как ни парадоксально, гораздо более уязвимы для мошенников из-за дефицита социального интеллекта. Поэтому не ищите ложь всегда, везде и во всем, а лучше учитесь обнаруживать, когда вы сами себя обманываете. Распознавайте свои заблуждения и ошибки мышления.
📑 Источники ↗
Подписывайтесь на мои соц. сети
В одном из топовых биологических журналов Cell вышла подробная статья о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Авторы воспользовались тем, что в начале пандемии бралось очень много образцов генетического материала из отдельных прилавков на рынке в Ухане.
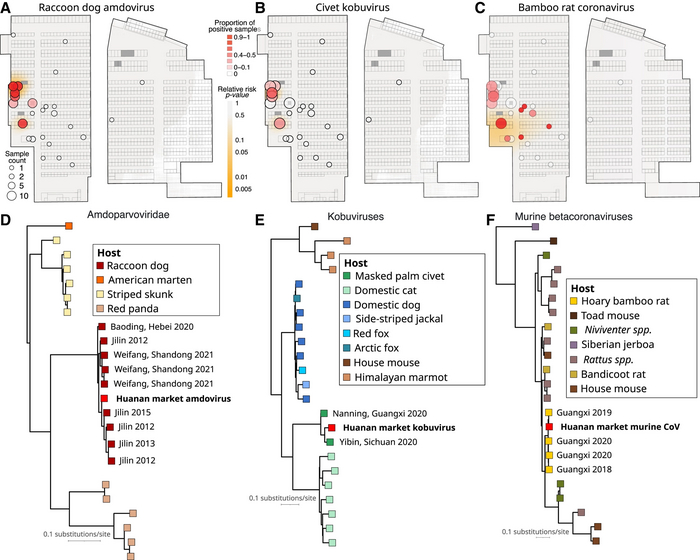
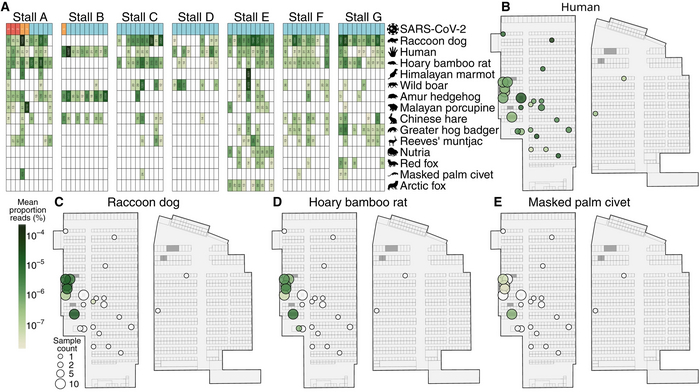
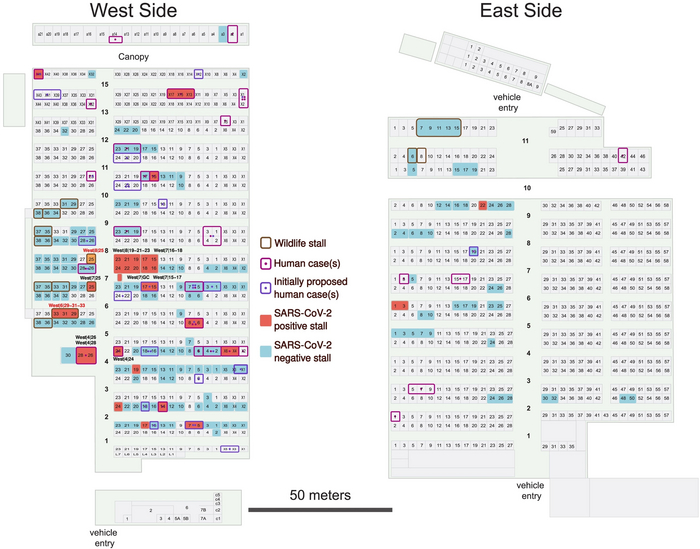
Авторы обнаружили, что есть конкретные точки, которые были максимально богаты ранними образцами коронавируса SARS-CoV-2. При этом эти же точки содержали и другие вирусы, которые заражают животных.
Это сравнили с данными о том, где держали каких животных. И, конечно, оказалось, что в этих прилавках держали енотовидных собак, пальмовых циветов, седых бамбуковых крыс и малайских дикобразов. Енотовидные собаки, например, совершенно точно являются переносчиками коронавируса SARS-CoV-2. И не только они.
То есть вот такое совпадение. В том месте рынка, где много вируса, много потенциально заразных животных. Кто бы мог подумать. Как пишут сами авторы: "Только зоонозное происхождение SARS-CoV-2 непосредственно предсказывает совместное обнаружение SARS-CoV-2 и генетического материала диких животных".
Немного свежего, но закономерного безумия, в очередной раз подтверждающего, что все-таки религия и наука плохо уживаются вместе.
Как биолог вынужден напомнить, что в нашей науке теория эволюции Дарвина общепринята. Она настолько хорошо обоснована, что может считаться фактом. Биологи давно не спорят о том, была ли эволюция и произошло ли все живое от единого общего предка. Это верно абсолютно для любой страны, от Китая и России до США и Европы, то есть идеология и политика совершенно ни при чем.
Если кому-то хочется полистать многочисленные аргументы в пользу теории эволюции, есть замечательная и подробная статья в Википедии "доказательства эволюции", написанная при участии профессионалов.
У меня на канале есть видео «В начале было слово. Эволюция».
Также можно почитать книги доктора биологических наук Александра Маркова, например, «Рождение сложности».
Понятно, что против теории Дарвина выступают люди, которые в школе биологию прогуливали. Забавно, что это не мешает им считать себя экспертами и идти против обоснованной позиции всего профессионального научного сообщества. Религия не только позволяет, но и подталкивает это делать.
https://www.rbc.ru/politics/19/09/2024/66ebf8c69a794744598b3...
Если видео медленно загружается на YouTube, смотрите его здесь.
Говорят, психоделики открывают новый мир. А ещё есть мнение, что, если принимать их микродозами, можно и депрессию победить, и умственные способности улучшить, и воображение прокачать. Из сегодняшнего текста вы узнаете, что наука думает об использовании психоделиков в медицине, можно ли лечиться грибами, как выглядит научный рейтинг психоактивных веществ, реально ли создать безопасный заменитель алкоголя и при чём тут печально известный яд «Новичок».
Но сначала – небольшой дисклеймер. Я ни в коем случае никого не призываю покупать, употреблять, изготавливать или пропагандировать запрещенные наркотические вещества и их прекурсоры. Ни в каких количествах. Я хочу лишь описать исследования по изучению воздействия психоделиков на организм. Чисто с научной точки зрения. Нелегальные наркотики опасны еще и тем, что нельзя проверить чистоту и концентрацию действующего вещества — что постоянно приводит к трагическим последствиям.
В 2021 году вышло в свет одно из самых крупных исследований микродозинга – двойной слепой плацебо-контролируемый эксперимент. Вот несколько цитат из рассказов испытуемых: «В некоторые дни во время исследования у меня очень усилилась концентрация, а цвета были более яркими. Это было для меня совершенно новое чувство!», «Мне кажется, я смог достичь очень мощного состояния измененного сознания…»
В этом исследовании подопытные принимали крохотные дозы псилоцибиновых грибов и LSD. Псилоцибин — это запрещенный в большинстве стран наркотик. Он содержится в самых разных грибах и вызывает эйфорию, галлюцинации, измененное ощущение времени и мистические опыты.
Но может вызывать и тошноту, панические атаки, даже психоз. Бывали смертельные случаи — из-за паники или дезориентации во время неудачных опытов.
LSD, диэтиламид лизергиновой кислоты — еще одно запрещенное вещество, но уже синтетическое. В целом оно вызывает схожий эффект – сенсорные галлюцинации, мистический опыт, прозрения. Принимающие LSD часто говорят, что у них звуки, цвета и ощущения словно связываются воедино. Действительно, при приеме LSD усиливается “связность” мозга. Это можно увидеть даже по показаниям МРТ: участки нервной системы, которые раньше были независимы, теперь включаются одновременно.
Однако при микродозинге человек выраженного измененного сознания не испытывает, так как доза в 10–20 раз меньше используемой для трипов. Рассказывают, что после микродозинга якобы улучшается память, настроение, креативность, цвета становятся ярче.
Должен признаться: я вас немного обманул. На самом деле написанные выше цитаты принадлежали людям из плацебо-группы, которые никаких психоактивных веществ во время эксперимента не принимали. Причем впечатлениями они делились уже после того, как узнали, что принимали плацебо. Поэтому полностью вторая цитата звучит так: «Мне кажется, я смог достичь очень мощного состояния измененного сознания… только за счет собственных ожиданий того, что может сделать микродоза». А еще один подопытный в шутку сказал: «Вы смогли запихнуть духовность в пустую пилюлю. Невероятно!»
В общем, в самом большом и дотошном на сегодняшний день исследовании микродозинг оказался ничем не лучше плацебо.
Ни по одному исследуемому показателю – от шкалы депрессии до тестов на ум и креативность. А еще оказалось, что люди, которые верили, что принимали микродозы, демонстрировали наилучшие результаты. Независимо от фактического приема веществ. То есть за эффекты веществ люди иногда принимают эффекты собственных ожиданий.
В медицинском смысле идея микродозинга не совсем абсурдна. Это вам не гомеопатия. Да, дозы маленькие, но не настолько! В фармакологии есть понятие «терапевтический потенциал» – это разница между лечебной дозой и смертельной.
У многих лекарств она всего один к двум. Превысил в два раза дозировку, откинул коньки. «Окошко», в котором вещество действует, но не отравляет — очень узкое. А вот в случае грибов эффективная доза, при которой ощущается воздействие, отличается от смертельной в тысячи раз. Для LSD смертельной дозы не выявлено вовсе — даже описаны случаи, когда люди, случайно принявшие сотни эффективных доз разом, не испытали долгосрочных негативных последствий.
Вообще исследовать психоактивные вещества — огромная проблема. И не только потому, что вещества сложно достать. Во-первых, человек, скорее всего, догадается, что принимает настоящий препарат. Поэтому крайне сложно провести слепое исследование. Во-вторых, незаконно приглашать людей к участию в экспериментах с запрещенными веществами — получается, вы подстрекаете молодёжь употреблять наркотики.
Поэтому авторы работы пошли на ухищрение. Они рассудили так: в мире полно людей, которые и так практикуют микродозинг. Давайте вместо клинического исследования в лаборатории кинем клич всем желающим — в какой бы стране они ни жили. Пусть участники микродозят как обычно, а мы за ними понаблюдаем. Но как же контроль за составом и дозировкой препаратов? Ведь каждый покупает вещества где попало, никто не проверяет их состав и так далее…
В том-то и дело: ученые смогли превратить баг в фичу!
Ведь получается, что условия эксперимента максимально приближены к реальности. Не можем управлять дозировкой? Да и не нужно! Ведь испытуемые сами достают психоделики на черном рынке, а там дозировка все равно «плавает» в зависимости от продавца и партии. Заодно это сильно удешевляет сам эксперимент, ведь подопытные сами покупают препараты. К слову, выборку удалось набрать приличную – почти 200 добровольцев (их личные данные учёные не раскрывали). В итоге эксперимент одобрила даже университетская этическая комиссия. Учёные хитро обошли целое минное поле этических и юридических конфликтов.
Но оставалась ещё одна проблема. Если испытуемый сам себе выдает вещества, причём где-то далеко от ученых — как сделать так, чтобы эксперимент был слепым, то есть чтобы участники сами не знали, принимают они действенное средство или плацебо? А вот так. Каждый участник получал непрозрачные капсулы для пилюль. В часть капсул он насыпал свою любимую микродозу. А часть капсул оставались пустыми — это было плацебо. Затем испытуемые раскладывали пилюли по конвертам, клеили на конверты QR-коды и перемешивали. Потом из восьми конвертов участник случайно выбирал четыре — по одному на неделю месячного эксперимента. Причём так, что либо весь месяц он принимал психоактивное вещество, либо весь месяц плацебо, либо пополам — то одно, то другое. Кому что досталось, знали только экспериментаторы — по QR-кодам.
Кроме того, людей просили угадать, что лежит в текущем конверте — и смотрели, влияет ли ожидание человека на субъективный опыт. Ответ вы уже знаете.
Сами авторы назвали свой эксперимент «гражданской наукой». И метод, который они придумали, оказался даже более ценным, чем сам результат эксперимента. Видимо, учёные тоже это понимали — и в 2023 году опубликовали в журнале Scientific Reports статью про сам метод. Причем с интересным дополнением – люди все же иногда угадывали, принимают они психоактивное вещество или нет. Это влияло на результаты. То есть даже хитрый метод с конвертами не дал настоящего слепого, плацебо-контролируемого клинического исследования — где человек в принципе не может догадаться, в какой он группе. Поэтому авторы вывели специальную «формулу ослепления».
Они как бы оценили “эффект плацебо” и научились вычитать его из эффекта препарата. Так можно прикинуть, каким получился бы результат эксперимента, если бы никто не догадался, где были вещества.
И вот они применили эту поправку к своему исходному эксперименту… «И превратили своё поражение в триумфальную победу», наверное, подумали вы. Но вот что пишут учёные:
«При традиционном анализе без этой поправки мы бы сказали, что микродозинг влияет на настроение, эмоциональность, креативность. Но после ее внесения почти ни одного результата не осталось».
Стало понятно, что эффекты микродозинга почти полностью объясняются самовнушением, а не препаратом. Кстати, авторы работы — вовсе не скептики, которые пытались разоблачить микродозинг. А совсем наоборот:
«…мы думали, что станем героями, доказавшими, что микродозинг работает. Результаты несколько разочаровали. В сообществе микродозинга все очень огорчились».
Старший ученый в этой группе — вообще чуть ли главный адепт использования психоделиков для терапии. Это профессор фармакологии Дэвид Натт.
И вот представьте: этот гуру психоделиков тщательно и убедительно показал, что микродозинг работает слабо – а то и вовсе не работает.
Почему меня будоражат и интригуют эти исследования? Потому что этот метод можно применить в совершенно других сферах науки, где тоже сложно провести клинические исследования. Так, я очень переживаю за развитие науки о старении. Биохакеры тоже по этому поводу переживают – а ещё они постоянно тестируют на себе всякие сомнительные препараты и БАДы. Кстати, сейчас в Гондурасе создали особую экономическую зону, город «Проспера». Там можно легально вколоть себе генную терапию и расплатиться биткойном. Да-да, киберпанк наступил.
Так вот, некоторые богатые биохакеры ездили туда, чтобы генно-модифицироваться (делать этого я пока не рекомендую).
Но даже эти экстремалы почти никак не помогают науке. И вот почему:
Во-первых, каждый биохакер экспериментирует на одном человеке – на самом себе. Выборки, по сути, нет;
Во-вторых, он знает, что вколол или проглотил. Эксперимент не слепой.
Но что, если применить к биохакерам вот эти хитрые способы группы Дэвида Натта? Давайте «ослепим» их на расстоянии и внесем статистические поправки на ожидания. Так мы сможем провести на куче биохакеров по всему миру большое клиническое исследование. Уже есть сотни биохакеров, которые себя чем-то биохакают: например, много лет принимают рапамицин, который продлевает жизнь мышам, но на людях толком не тестировался. Ну а мы превратим их хобби в науку. Раньше люди просто ходили под кайфом. А теперь ходят под кайфом — но ради науки. И так же биохакеры — раньше просто хрустели БАДами как попкорном, а отныне будут давать реальную информацию ученым.
Исследование команды Натта опровергло действенность именно микродозинга. Но у этого же ученого есть десятки статей про использование психоделиков — просто в обычных дозах. Например, Натт публиковал обзор опыта медицинского применения психоделиков, в том числе псилоцибина и LSD. И вывод его такой: по-видимому, основной эффект психоделиков в виде странных ощущений вызван тем, что они стимулируют рецепторы серотонина в мозге — как будто у вас слишком много серотонина. Причем психоделики стимулируют строго определенный тип серотониновых рецепторов – 5HT2A. Именно они отвечают за измененное состояние сознания с галлюцинациями и деперсонализацией. Это смогли доказать: есть лекарства, которые блокируют именно этот тип рецепторов. И если их принять, психоделики перестают действовать.
И главное, Натт описывает, как эти изменения в сознании происходят. Обычно наш мозг работает синхронно и ритмично. Помните про мозговые ритмы? Вот тут они расстраиваются. Но это не просто хаотичный бардак. От психоделика внутри коры усиливается связность: у сигнала становится больше шансов пробиться из одной части мозга в другую. Все в мозге связывается со всем. Например, так может возникнуть синестезия, когда два ощущения объединяются в одно: вы начинаете «нюхать звуки» или «слышать цвета», как композитор Скрябин.
В таком состоянии могут возникать новые, необычные ассоциации, которые раньше никогда в голову бы не пришли.
Натт утверждает, что в некоторых случаях псилоцибин помогает людям с клинической депрессией — причем этот эффект может длиться много месяцев после одного приема. По его версии, тут работает именно повышенная связность в коре головного мозга. Грубо говоря, депрессия эту связность нейронов понизила, а психоделик — повысил обратно к нормальным показателям.
Эта идея заинтриговала многих ученых. Они увидели в этом своего рода «продолжение» для самого популярного и изученного средства для борьбы с депрессией: так называемых ингибиторов обратного захвата серотонина. Типа сертралина, известного под торговым названием Золофт.
Вы наверняка слышали о таких антидепрессантах. Работают они так: есть два нейрона. Отросток одного заканчивается на теле другого. И вот в этом месте возникает щель под названием синапс. Один нейрон выбрасывает туда вещество-нейромедиатор, что может активировать другой нейрон. Чтобы нейрон не «закоротило» навечно, есть молекулы, которые «втягивают» нейромедиатр обратно в первый нейрон. Это и есть «обратный захват»: выбросили серотонин, потом обратно захватили. А вот антидепрессант не дает втянуть серотонин обратно — «подавляет обратный захват». Серотонин остается в щели и сигналит гораздо дольше и эффективней.
Представьте, что ваш мозг перестал нормально награждать себя серотонином: вас ничто не радует и не мотивирует. Тогда лекарство может во много раз усилить и продлить даже редкий и слабый сигнал. И в вас уже что-то зашевелилось. Теперь понимаете, почему ученых так заинтересовали психоделики? Не нужно ждать, пока ваш собственный нейрон выделит серотонин. Психоделики сами бьют в его мишень — работают вместо серотонина. А еще рецептор серотонина намертво прицепляет к себе молекулы LSD — видимо, поэтому некоторые остаточные эффекты препарата могут длиться недели и даже месяцы.
А теперь – небольшое отступление про «Новичок». Все, что я вам сейчас рассказал, очень похоже по действию на боевой яд. Мы обсуждали нейромедиатор серотонин, а есть нейромедиатор ацетилхолин. Его главная задача — активировать мышцы. Выбросили его, мышца сократилась. А чтобы мышца не «залипла» и ее не свело, есть фермент ацетилхолинэстераза. Она разрушает ацетилхолин — и мышца расслабляется. Так вот, химическое оружие типа «Новичка» не дает этой ацетилхолинэстеразе работать. Теперь некому выключить мышцы – и их сводит судорогой. Потом отказывают не только руки и ноги, но и мышцы, нужные для дыхания. Так работают и некоторые другие боевые нервно-паралитические газы — например, зарин, табун и VX.
Но вот что интересно: этот же эффект используют, чтобы облегчать болезнь Паркинсона. Если давать больному микродозы такого нервно-паралитического вещества, можно ослабить тремор.
Но вернёмся к обзору Дэвида Натта. Он озаглавил его «Что мы знаем, что мы думаем и что еще предстоит изучить». О чём же думает Натт? Например, о том, что длительное положительное влияние психоделиков на настроение связано с усиленной нейропластичностью — то есть способностью мозга меняться и создавать новые нейронные связи. Какие тут есть доказательства? Как минимум это показали опыты над животными. Им давали психоделики – а в их мозге выстраивались новые связи за счет нейропластичности.
Это можно сравнить с выдуванием стекла: пока оно горячее, из него можно слепить что-нибудь красивое. Ну или что-то стремное. А когда оно застынет, то это уже надолго.
Именно по этой причине я сам никогда не принимал психоделики. Я очень ценю свою личность и не хочу, чтобы она непредсказуемо изменилась. А это правда может произойти. Есть небольшое исследование 2018 года, авторы которого изучили, как псилоцибины меняют черты личности человека. Учёные использовали признанный опросник из психологии под названием «Большая пятерка». Выяснилось, что после приема псилоцибина у людей чуть снижался невротизм, увеличивалась экстраверсия и открытость к новому опыту. Разумеется, это грубая прикидка: тонких изменений личности этим тестом не засечь.
Казалось бы — здорово, мозг может меняться в лучшую сторону. Но и в худшую — тоже может. Что, если человек под действием психоделиков поймает паническую атаку, уверует в какие-нибудь теории заговора, станет параноиком? Некоторые считают, что так произошло с великим фантастом Филипом Диком.
Во всяком случае, мы знаем, что с какого-то момента он стал конспирологом. Например, он активно наезжал на моего любимого писателя Станислава Лема. Дик считал, что Лем — это на самом деле заговор коммунистов, псевдоним для секретного комитета, который под видом научной фантастики развращает американскую молодежь. Дик даже написал тематический донос в ФБР.
Вот уж действительно, плохой трип получился.
Итак, ученые предлагают два механизма действия психоделиков, которые теоретически могут облегчить депрессию:
воздействие на рецепторы серотонина;
нейропластичность – возможность повысить связность между нейронами.
Но допустим, вы не верите субъективному опыту людей, ведь его невозможно измерить приборами. Но в 2021 году учёные показали, что небольшие дозы LSD резко повышают концентрацию в крови фактора BDNF. В норме BDNF стимулирует и поддерживает развитие нейронов, усиливает нейропластичность. А когда мозг дряхлеет, особенно при болезни Альцгеймера, его количество резко снижается.
То есть ученые рекомендуют принимать LSD? Нет. Во-первых, если вы хотите повысить себе BDNF — просто займитесь спортом. Да, молекула, влияющая на мозг, вырабатывается при физических нагрузках. Во-вторых, принимать можно и сам BDNF. Уже сейчас идут клинические исследования, где с болезнью Альцгеймера пытаются бороться за счет прямых инъекций этого фактора. В-третьих, помните, что психоделики могут изменить вашу личность. А микродозинг без выраженных психоделических эффектов, по-видимому, не очень-то и работает.
Надо сказать, что в последнее время работ по изучению психоделиков становится все больше. Есть даже довольно зрелая область науки, психофармакология, которая занимается конкретно вопросами пользы психоактивных веществ.
Но почему ученые так упорно пытаются ввести запрещенные наркотики в медицину? Почему про LSD написано порядка десяти тысяч научных статей? Ради хайпа и эпатажа? Чтобы привлечь внимание СМИ? Нет. Просто для лечения проблем с нервной системой нужно воздействовать на нервную систему. А для этого — присматриваться к веществам, которые на нее сильно влияют. Вот пример из истории: психоделик LSD принадлежит к известной группе веществ эрголинов — от слова ergot, «спорынья». Спорынья — это ядовитый грибок. В нем есть куча алкалоидов: одни вызывают некроз тканей, а другие, эрголины, вызывают галлюцинации. От спорыньи может развиться эрготизм – им довольно часто страдали в Средневековье.
Ведь спорынья — это паразит зерна, который может попадать в хлеб. Есть даже неоднозначная теория, что массовыми случаями эрготизма в прошлом можно объяснить повсеместные мистические опыты, чрезмерную религиозность и охоту на ведьм.
Но эрголины могут быть и полезными. Например, эрготамин еще с начала XX века используется для борьбы с мигренью — он помогает от боли, когда не справляются даже самые сильные обезболивающие. Также из эрготамина можно получить и LSD.
А что псилоцибин? Про его использование для лечения депрессии уже вышли некоторые клинические исследования, причем в серьезных научных журналах, например, в New England Journal of Medicine. Авторы обнаружили, что псилоцибин, по-видимому, не хуже, чем обычные антидепрессанты — те самые ингибиторы обратного захвата серотонина. Конечно, это еще нужно будет подтвердить — но американская FDA уже рассматривает утверждение псилоцибина как лекарства от депрессии для тех случаев, которые не поддаются лечению другими средствами. «Волшебный гриб» даже внесли в категорию breakthrough therapy — это упрощенная процедура для лекарств, которые могут оказаться прорывной терапией.
Сейчас псилоцибин находится во второй фазе клинических исследований на людях. Остается третья фаза испытаний и сертификация. Если испытания дадут положительный результат, возможно, уже через пару лет в США будут рутинно давать «волшебные грибы» от депрессии — и это будет легально. Может, и мир потом подтянется.
А теперь я расскажу, почему Дэвид Натт не просто известен, а скандально известен. В 2007 году он опубликовал статью в журнале «Ланцет» — про сравнительную опасность разных наркотических веществ. Натт собрал экспертов по вопросам злоупотребления психоактивными веществами — от героина и кетамина до алкоголя, табака и так далее. И предложил специалистам оценить вред этих веществ по объективным параметрам — невзирая на их легальность. При этом эксперты оценивали вред и для самого человека (насколько ты вредишь себе), и для окружающих (насколько разрушительно твое поведение). А потом специалисты сравнили эту меру опасности с правилами оборота наркотических веществ, принятыми в Великобритании. В Великобритании тоже есть списки запрещенных веществ: чем выше уровень в списке, тем строже его регулируют и тем строже наказание за оборот.
Согласно Натту, алкоголь — разрешенное вещество — попал на 5 место в рейтинге вреда. Выше него оказались только героин, кокаин, барбитураты и кустарно произведенный уличный метадон. Статья вызвала жуткий скандал. Многим казалась оскорбительной сама идея о том, что разрешенные вещества наносят людям гораздо больший вред, чем строго запрещенные. Например, LSD, который находится в самом строгом списке по версии наркоконтроля, оказался в рейтинге Натта на 14 месте — ниже табака и марихуаны.
Причем скандал вышел национальным — потому что Натт был не просто эксцентричным ученым, а председателем Совета по вопросам наркозависимости при правительстве Великобритании. Далее, в 2009 году, он прочел пламенную лекцию, где повторил свои выводы — мол, давайте ранжировать наркотики по их реальному вреду. Тут терпение чиновников лопнуло. Сначала Натта заставили извиниться, а потом министр внутренних дел Великобритании выгнала его из Совета по вопросам наркозависимости. При этом Натт признал некоторые упреки критиков и переработал свою методологию: теперь она учитывала не только мнение экспертов, но и объективные критерии вреда. В 2010 году вышла еще одна статья, тоже в «Ланцете».
И как вы думаете, что в этот раз оказалось на первом месте по вредоносности? Угадали, алкоголь! Теперь он уже с большим отрывом обогнал и героин, и крэк, и метамфетамин — из-за своего более сильного вреда для окружающих. А легальный никотин снова оказался выше марихуаны. Что касается LSD, экстази и псилоцибиновых грибов, они улетели на далекие 17, 18 и 20 места — хотя по закону входят в самый «опасный» список.
У опалы Натта была еще одна интересная причина. Незадолго до увольнения он раскрыл новый, недооцененный источник зависимости — «эквази». Вы еще не знаете, что это за тайная угроза? Сейчас расскажу! Вполне возможно, что она с вами рядом.
«Я узнал об этой опасности от женщины, которая страдала от необратимых повреждений мозга, вызванных “эквази”. У нее наблюдалось глубокое изменение личности, повысилась раздражительность, импульсивность и тревожность, пропала способность испытывать удовольствие. Плохо функционировала фронтальная кора, что негативно сказывалось на принятии решений и выборе партнеров и привело к нежелательной беременности. Также женщина потеряла трудоспособность, вероятно, навсегда. Таким образом, социальная цена вреда от эквази чрезвычайно высока!»
«Какова же природа зависимости от эквази? Эквази вызывает у людей выброс адреналина, эндорфинов. Им злоупотребляют миллионы граждан Великобритании, включая детей и подростков».
«Опасные последствия употребления эквази хорошо изучены. От него умирают около 10 человек в год, еще больше страдают от необратимых повреждений мозга. Установлено, что негативные эффекты проявляются при одном из 350 употреблений эквази; этот риск… чаще проявляется у опытных пользователей. Эквази связано с более чем сотней ДТП в год, порой со смертельным исходом».
И далее еще статистика: в США эквази вызывает 11 тысяч травм в год, а в некоторых графствах Великобритании число черепно-мозговых травм от таких случаев больше, чем от ДТП, особенно в сельской местности.
«Потребители эквази склонны собираться в группы, которые зачастую склонны к агрессии и рукоприкладству. Зависимость от эквази… нередко принималась судами как довод в пользу развода».
«Основываясь на этих тревожных фактах, Совету по наркозависимости Великобритании следовало бы внести эквази в наиболее регулируемой группу наркотиков, список А».
«Догадались ли вы, что такое “эквази”? Это синдром зависимости от верховой езды и лошадей! (От слов “экстази” и equestrian — лошадник.) Зависимость от него вызывает повышенный риск падения с лошади или попадания под нее. Думаю, многие люди удивятся, что катание на лошадях настолько опасно. Но таковы данные».
Конечно, я решил устроить этой статье фактчекинг. И узнал, что одна из самых лошаделюбивых стран по доле населения — это Швеция, там полмиллиона человек катаются на лошадях. И за 20 лет там зафиксировали больше 1 500 травм, 18 на 100 000 человек ежегодно, в том числе среди детей. Если что, это в 18 раз больше числа убийств на душу населения в той же Швеции. Понятно, что такое сравнение не очень корректно, но оцените масштаб проблемы. В другом исследовании опросили 500 человек, купивших принадлежности для верховой езды. 6% из них попадали в больницу, а 25% обращались к врачу из-за травм при верховой езде.
Я считаю, что это очень остроумное сравнение. Однако именно из-за этой статьи министр внутренних дел Жаклин Смит попросила Натта публично извиниться перед семьями, чьи родственники пострадали от употребления наркотика экстази. Лично я бы в ответ сказал — может, наоборот, министр проявляет неуважение к жертвам верховой езды? Почему жертвы конного спорта не получают должного внимания?
Натт не просто троллил правительство. Он специально сравнил любителей конного спорта именно с экстази — веществом, смертность от которого чрезвычайно низка. Натт хотел доказать, что запрет веществ часто продиктован не их опасностью, а иррациональными причинами. Мы часто слышим от традиционалистов: «Подумайте о детях». А рядом существуют праздники и хобби, которые то и дело наносят тяжелые увечья детям — но они не запрещены. Например, в Каталонии есть старинная традиция строиться на праздник в огромные человеческие пирамиды. По традиции, на самый верх подсаживают детей. При этом такие пирамиды часто падают. Или возьмем уже упомянутое катание на лошадях. Если оно фактически убивает больше людей, чем экстази, почему экстази регулируется так строго, а лошади — нет?
Натт предлагает нам задуматься о том, почему «традиционные» вещи — допустимы и якобы безопасны, а «непривычные» считаются опасными и запрещены. Учёный предлагает государству принимать решения о классификации наркотиков на основе научных данных, а не мнений политиков или традиций.
Чем же дело кончилось? Да, Натта выгнали из госкомиссии по наркозависимости — правда, он тут же организовал свою независимую, DrugScience. Научное сообщество было на стороне коллеги. В 2013 году Дэвид Натт получил премию имени Джона Мэддокса — «За достижения в области научно обоснованного подхода к классификации наркотиков». В формулировке награды даже специально отметили, что он подвергся гонениям.
Тут важно знать, кто такой Джон Мэддокс: это бывший главный редактор Nature, который прославился борьбой с псевдонаукой.
В частности, он опроверг теорию памяти воды. Приз его имени получали разные борцы с мракобесием. Например, Эдзард Эрнст, бывший приверженец гомеопатии, который стал ее критиком. Или Элизабет Лофтус, которая занималась проблемой ложной памяти свидетелей — той самой, из-за которой несправедливо осудили и продолжают осуждать множество людей.
И все же правильно говорят: критикуя, предлагай. Я рад, что Натт не просто толкал речи. Раз уж он показал, что алкоголь – самое опасное психоактивное вещество, то решил: нужно принимать какие-то меры. И основал в 2014 году компанию, задача которой — разработать заменитель алкоголя. Компания называется GABA Labs — в честь нейромедиатора ГАМК. Этот нейромедиатор обычно тормозит нервные клетки, уменьшает их активность. В том числе через него на нас воздействует этанол в спиртных напитках. Практически все симптомы опьянения — повышенная коммуникабельность, расслабленность, развязность — по-видимому, вызваны действием этанола на рецепторы ГАМК.
Дэвид Натт поставил себе задачу: создать напиток, который вызывает те же самые эффекты, но не вызывает привыкания — заменить алкоголь чем-то более безопасным. Люди все равно будут пить — так пусть хотя бы пьют что-то не столь вредное.
В этом смысле идея Натта при успехе могла бы абсолютно перевернуть весь мир. Вопрос лишь в том, насколько эта идея реализуема. Пока что авторы из GABA Labs говорят так: мы кое-что разработали – и сейчас проходим комиссию американского регулятора FDA. Добровольцы пробовали эти аналоги алкоголя — их впечатления описаны в статье в Business Insider. При этом сами создатели поясняют, что совсем напиться этим веществом нельзя. А рассказам о том, что напиток вызывает «расслабление и приятное чувство в теле», пока что сложно верить — учитывая эффект плацебо.
Как видите, вся нейронаука, о которой мы говорили — синапсы, нейромедиаторы, рецепторы — очень даже практична. Она может менять мир и улучшать жизнь. Вот почему я считаю, что научная ценность исследований психоактивных веществ велика. Изучая, как разные вещества действуют на мозг (в том числе в разных дозах — поэтому эксперименты с микродозингом тоже должны продолжаться), мы раскрываем механизмы их действия и можем воспроизвести их с меньшим вредом.
Наркотики приносят много зла. И поэтому мы обязательно должны их исследовать — именно для того, чтобы обернуть зло на пользу.
📑 Источники ↗
Подписывайтесь на мои соц. сети