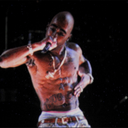На «Киевской» бабка с попутчиком докопались до парня из-за розовой кофточки
В ответ 22-летний парень из Иркутска распылил газ и сбежал. Его задержали и оформили мелкое хулиганство
Ответ Nartan в «Встретились как-то русские люди и поговорили»3
Негр в трамвае. Сзади к нему обращаются:
- Эй, черножопый, передай на билет!
Он спрашивает:
- Что значит - "черножопый"?
Ему отвечают:
- Это значит - уважаемый.
Негр, удовлетворенный ответом, обращается к впереди стоящему грузину:
- Черножопый, передай на билет!
Грузин
- Да моя жопа по сравнению с твоей - снэгурочка!
Про Эрмитаж
Захотелось мне давеча окультурится.
Время позволяет наконец.
И вспомнила я, что лет 10-15 назад Пиотровский приглашал на курс лекций, как говорится, с нуля, по живопИси и пр. культурам. Мне тогда очень захотелось, но я тогда работала 16/24 и 7/7.
Зашла на сайт Эрмитажа- и ничего подобного не нашла. Стала гуглить - и нагуглила такое!!!😳😳😳
Оказывается, в Эрмитаже уже и нет подлинников, а сам директор Эрмитажа свою должность передаёт по наследству своему внуку.
Вот такие слухи по городу ходят.
Это как вообще понимать??!
О биде
Слово "биде" происходит от французского "bidet", что первоначально означало маленькую лошадку или пони.
#факты_о_которых_никто_не_просил