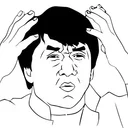Ответ user10862724 в «Не знаю какой заголовок написать»2
Никто не может осмыслить ситуацию и менее длительную и сложную, нежели описанная, сколь бы не пытался. При этом принять может легко. Ситуация способна принять человека без всякого осмысления.
Потому что ситуация - это момент, а осмысление - процесс. Принцип Гейзенберга опять же.
Ответ на пост «Не знаю какой заголовок написать»2
Что-то вспомнилось, был у меня коллега, про семьи свои разговорились за чашечкой чая, он и рассказал, что был женат, родили в браке одного ребенка, но решились разойтись, после развода супруга вышла замуж, ну второй раз получается, он тоже поженился, у каждого во втором браке по ребенку появилось, лет через 8-10 любовь с новой силой вспыхнула и сошлись, полюбили значит друг-друга снова, ну и начали жить вместе, ещё одного ребенка родили, ну а по факту старший и младший ребенок общий и у каждого от второго брака по ребенку, уже лет 10 прошло, живут вместе и все у них вроде хорошо, а я вот вопросом задаюсь, стоило оно того, чтоб развестись? Ну по сути все дети свои родные каждому, но есть нюанс. Осмыслить и принять такую ситуацию я бы для себя не смог.
Не знаю какой заголовок написать2
Я уже какое то время в разводе. Поэтому готов к построению отношений.
Знакомлюсь с девушкой. Свидания , прогулки , кины. В процессе общения узнаю , что она в разводе .
Несколько раз она приезжала ко мне с ночёвкой. И я уже настраивался на продолжительные отношения.
Недавно она пригласила в гости .
Приезжаю. Квартира довольно уютная студия. Иду мыть руки . И тут что то странное - бритва мужская и пена для бритья. Так же гель для душа мужской " типа 10 в 1 ". И начинаю думать что это всё неспроста. И понимаю что и обувь мужская возле тумбочки у дверей стоит .
И сразу мысли - а правда ли девушка в разводе ? Вдруг её муж об этом не знает.
Приедет , а тут я такой красивый и не понимающий.
Помыл руки .
И прямо спрашиваю девушку про то что я заметил.
Она сначала мялась , но потом рассказала что действительно в разводе. Но бывший муж пока живёт с ней в квартире.
Так как своего жилья у него в городе нет , только в области. Со съемом пока сложно .
Я конечно охренел. Пытался честно понять. Но как то не получилось.
И буквально пару дней назад девушка позвонила и сказала что хочет закончить отношения со мной.
Спрашиваю - почему ?
Она сказала что решила снова сойтись с бывшим мужем. Типа что знает его хорошо и что не надо заново привыкать.
Какой то странный хеппи енд
Как мужчина хочет, чтобы с ним общались
Ответ на пост «Представьте, что вы вернулись в 15 лет, но сохранили все имеющиеся знания и опыт взрослой жизни. Что будете делать?»
ну вот вообще ничего. перестал общаться с мудилами, ходил в море 5 лет. любил и был кинут. ни о чём не жалею
Новости по фильму Spaceballs 2
Космобольцы в сборе.
Корпорация Amazon MGM отправила в производство продолжение знаменитой пародийной комедии «Космические яйца». Первый снимок из-за кулис проекта подтвердил возвращение нескольких знакомых героев и представил колоритного новобранца франшизы.
Фотография с предварительной читки сценария подтвердила известие о появлении в сиквеле практических всех звезд кинокомедии 1987 года. Билл Пуллман вернется к роли Одинокой звезды, Дэфни Зунига перевоплотится в принцессу Веспу, а Мэл Брукс вновь порадует зрителей образами Йогурта и президента Дриста. Более того, создатели «Spaceballs 2» смогли рекрутировать Рика Морэниса, который вернется в Голливуд ради возможности снова сыграть Лорда Шлема. Так же было известно, что пробы в картину прошли Джош Гад, Кеке Палмер и Льюис Пуллман.
Благодаря первой закадровой фотографии стало понятно, что ожидается новая встреча с полковником Сандерсом в исполнении Джорджа Уайнера. Еще одним сюрпризом оказалось появление в кадре Энтони Кэрригана. Информация о роли трехкратного соискателя «Эмми» не сообщается.
«Космические яйца» пародировали прежде всего «Звездные войны». Брукс и компания не изменили себе: первый снимок с командой сиквела скопировал знаменитое черно-белое фото с читки сценария «Пробуждения силы». Съемки комедии начнутся в ближайшие дни под руководством Джоша Гринбаума.