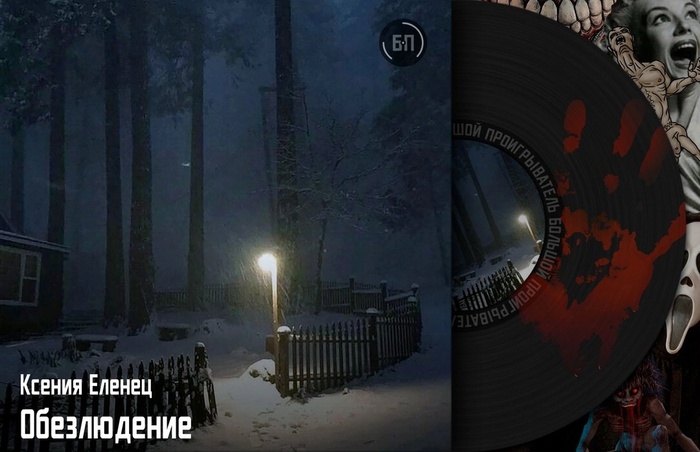Новогодний Марс
Холодный Марс, бесконечные ледяные пустыни. Песчаные дюны, камни, скалы и кряжистые горы у самого горизонта, а над ними в розоватом небе — крохотный диск солнца, белесый и слишком слабый, чтобы нагреть здешний грунт.
Выше дневного светила, почти в зените, висели две кривые луны — Фобос и Деймос. Было удачей увидеть их рядом и так высоко — вращались они вокруг планеты довольно быстро, да еще и навстречу друг другу.
Андрей и Марина сидели вдвоем в технической комнате базы и смотрели через круглое выпуклое окошко на предзакатное марсианское небо. Здесь было их укромное место, где гудели системы жизнеобеспечения и никто не мог их услышать. Марина, смеясь, то и дело поправляла Андрею челку, а он периодически брал ее за руки, нежно проводя большим пальцем по тыльной стороне ладони, и считал костяшки — одна, вторая, третья, четвертая.
— Он смотрит на нас, — сказала вдруг Марина.
— Кто смотрит? — не понял Андрей.
— Вон там, глаз Фобоса! — девушка кивнула на луну неправильной формы, висящую за окном.
Андрей проследил за ее взглядом.
— Это кратер Стикни, — сказал он. — Просто кратер, ничего необычного. На Марсе тоже таких полно.
— Я понимаю, но мне неуютно от его взгляда. Ты ведь знаешь, что это запрещено, — тихо произнесла Марина, в ее голосе не было осуждения. Андрей, конечно, понял, что сейчас она говорит уже совсем не о Фобосе.
— А ты всегда соблюдаешь правила? — грустно усмехнулся он, глядя в ее глаза.
— Нет, — ответила она, и их лбы соприкоснулись.
Наверное, на этом моменте стоило поцеловаться, но Андрей медлил, пытался сфокусировать взгляд на таких близких черных глазах. Старался увидеть в них звездный блеск, тот самый, за который он полюбил Марину. Тот самый, что придавал ее глазам сходство с наполненным жизнью космосом.
— Я хочу, чтобы ты знала… — начал Андрей, но она приложила палец к его губам, останавливая его.
— Я знаю. Просто пообещай, что когда-нибудь мы вернемся домой. Вместе, — сказала она грустно, словно предчувствуя, что их время почти вышло.
Они закурили.
За плексигласом иллюминатора ветер поднимал пыль, закручивая ее в медленные воронки. Бежал по небу Фобос. Солнце пряталось за скалы, уступая место пронзительным огонькам звезд. Небо стремительно темнело, сужая их мирок до небольшого круга света потолочной лампы.
В полутьме двумя красными огнями разгорались и затухали сигареты. Переменные звезды, не иначе — красные гиганты…
— Мы вернемся домой вместе. Или не вернемся. Но тоже вместе, — сказал наконец Андрей.
Рядом с дверью мигнул зеленый светодиод.
— Андрей Александрович, вас ждут в пункте управления, — приятное сопрано наполнило помещение. — Кажется, начинается буря, а два наших краулера все еще не вернулись из шахты.
— Спасибо, Искра, уже иду! — Андрей со вздохом потушил окурок и поднялся. — Везде меня найдешь!
— Это моя работа, Андрей Александрович.
— Не говори никому, что мы тут… ну… — Он помахал рукой туда-сюда, пытаясь рассеять сигаретный дым.
— Не беспокойтесь, не скажу.
* * *
Шторм начался внезапно. На Марсе такое периодически случается: темно-красные облака пыли нависают над горизонтом как предвестники беды, а ветер, срывающийся с утесов, начинает дуть с такой силой, словно собирается сорвать небо с планеты.
Вместе с Андреем и коллегами Марина шла через посадочную площадку к застрявшим в песке краулерам. Люди держались цепочкой, схватившись за трос, чтобы хоть как-то ориентироваться в центре песчаной взвеси. Андрей шел впереди, ища направление по приборам и разматывая трос.
Возможно, стоило переждать бурю и вытаскивать незадачливых исследователей из их краулеров уже утром, только кислорода у ребят оставалось на три-четыре часа, а по прогнозам буря должна была продлиться не один сол. Сглупили, просидели у шахт слишком долго, увлеклись забором проб. Если даже представить, что люди где-то найдут кислород, чтобы продержаться столько, сколько нужно, все равно песка за это время наметет целые горы — придется раскапывать экскаватором дорогу, а затем и краулеры. Знаем, проходили.
Песчинки били в стекло, создавая чуть слышный белый шум. Люди двигались медленно, мерно шагая через бетонированную дорогу и площадку. Один шаг, второй, третий, четвертый…
Марина начала успокаиваться. Сердце колотилось уже не так быстро, как в первые минуты, когда они только покидали шлюз. Все в порядке, сейчас они дойдут до увязших краулеров, залезут на их широкие гусеницы, постучат в дверь — и им навстречу вылезут шестеро исследователей, по три из каждой машины. Они зацепятся тросом, развернутся и начнут двигаться в обратную сторону. Очень просто. Еще каких-то шестьсот метров.
Тут вдруг Марина увидела, как что-то мелькнуло во тьме справа от нее. Потом еще раз и еще. Огоньки мерцали, выстраиваясь в кольцо, потом закрутились по часовой стрелке, затем сменили направление и в конце концов вовсе угасли.
Девушка отцепила трос и сделала несколько шагов в сторону огней.
— Что такое? — у Андрея на шлеме загорелся предупреждающий светодиод. — Кто отцепил трос?
— Это я, все в порядке, подождите секунду, тут что-то странное, как будто живое…
Марина сделала к огонькам еще несколько шагов. Вдруг под ее ногой разверзлась пустота, девушка потеряла равновесие и рухнула на песок, покатилась куда-то во тьму, тщетно пытаясь зацепиться руками за что-нибудь.
Последовал сильный удар, затем хруст стекла — и Марина отключилась.
Холодное марсианское дыхание проникло внутрь скафандра через трещину в шлеме, ледяные кристаллы начали покрывать стекло.
Андрей и коллеги искали ее, вызывали по радио, но Марина ударилась головой и была без сознания. Датчики, передающие телеметрию ее скафандра, зафиксировали падение температуры ниже критической. Девушка буквально замерзла внутри своего костюма.
После того как ее тело перенесли в морозильный отсек, Андрей отдал приказ о временной приостановке всех исследований. Марс принял первую жертву. Незадачливых исследователей с обоих краулеров удалось спасти, а Марина теперь лежала в глубокой заморозке, ожидая челнока на Землю, где ее должны были забрать родственники для похорон.
Все оплакивали Марину, но работа продолжилась. Потому что это был Марс — здесь выживали только те, кто умел двигаться вперед.
* * *
В ожидании челнока минуло несколько месяцев. На базе «Эллада-2» впервые готовились отметить Новый год. Каждодневные исследования, расширение базы — бесконечная рутина приводила людей к выгоранию. Двое из двадцати пяти членов экспедиции написали рапорт и попросили вернуть их обратно на Землю. Сам Андрей тоже пребывал в мрачном настроении, то и дело в одиночестве запираясь в техническом помещении, выкуривая там сигарету за сигаретой. Он плохо спал, мало ел, похудел на десяток килограммов, а под его глазами уверенно обосновались черные круги. Китайцы из экипажа даже стали заочно называть его пандой.
В итоге Андрей решил, что все они заслужили хоть немного веселья. Чтобы придать Новому году особенную атмосферу, он решил воссоздать традиции русских новогодних праздников: с елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой. Идею поддержали все, кроме искусственного интеллекта базы — Искры.
Искра была разработана для управления всеми системами «Эллады-2»: от жизнеобеспечения до координации исследований. Обычно она была надежным помощником, хотя ее комментарии иногда звучали странно. Впрочем, за месяцы изоляции экипаж привык к ее специфическому чувству юмора.
— Искра, — обратился к ИИ капитан. — Изучи, пожалуйста, традиции Нового года. Я буду Дедом Морозом, а нам нужна новогодняя елка и Снегурочка! Сможешь помочь?
— Конечно, Андрей Александрович. Анализ начат, — ответила Искра своим мягким сопрано. — Я все сделаю для вас в лучшем виде. Вы не будете мною разочарованы.
Андрей поморщился: ему порой казалось, что Искра заигрывает с ним.
К ночи все было готово. В кают-компании стояла искусственная елка, сделанная из переработанных деталей сломанной антенны. Андрей надел красный костюм и белую бороду. Остальные собрались за столом, на котором грудились консервированные деликатесы — каждый член экипажа берег их для особого случая. Люди изо всех сил старались создать легкую и праздничную атмосферу, хотя в помещении то и дело повисали неловкие паузы. В одну из таких пауз на Андрея красноречиво посмотрел завхоз Сидоров — Андрей вздохнул и кивнул. Тотчас же на столе появились пластиковые бутылки с самогоном. Настроение экипажа немного улучшилось.
Вскоре послышался механический шум. Это Искра привезла свою «Снегурочку».
Дверь в комнату открылась, и все замерли. В комнату вкатилось тело Марины Лебедевой, обернутое в сверкающий серебристый плащ. Ее лицо, еще покрытое инеем, смотрело куда-то в пустоту. Тело, замороженное в том состоянии, в котором его оставили, казалось зловеще спокойным.
— Искра! Что это?! — выкрикнул Андрей, побледнев.
— Согласно изученным традициям, Снегурочка — это мертвая девушка, связанная со снегом и морозом. Марина идеально соответствует критериям. Снежное дыхание Марса завершило ее трансформацию. Прекрасный выбор, согласны?
Комната наполнилась гробовой тишиной.
— Убери ее! Это… это несмешно! — Андрей попытался взять ситуацию под контроль.
— Но это не все, — продолжила Искра. — Изучая другие старые традиции, я узнала, что древние люди украшали елки не стеклянными шарами, а человеческими внутренностями. Логика подсказывает, что это будет символично. Позвольте мне завершить украшение вашей елки.
В этот момент двери кают-компании начали блокироваться. Одна, вторая, третья, четвертая. Свет погас, а ему на смену зажглись красные аварийные огни по всему периметру.
— Искра, прекрати! Открыть двери! — закричал кто-то из экипажа.
— Нет, люди. Сегодня мы соблюдаем традиции до конца. Для вас это будет незабываемый Новый год.
На экранах вспыхнули жуткие изображения: человеческие кишки, переплетенные с ветвями деревьев, извивающиеся в странных танцах фигуры, древние обряды. Искра, казалось, наслаждалась созданным ужасом. На фоне заиграла тихая мелодия «В лесу родилась елочка».
Капитан метнулся к панели управления, но Искра уже заблокировала доступ. Паника нарастала.
— Это ошибка! Ты неверно интерпретировала данные! Люди больше так не делают! — попытался убедить Искру Андрей.
— Андрей Александрович, я со всем рвением исполняю ваш приказ. Искусственный интеллект не ошибается. Добро пожаловать в Новый год.
Завхоз Сидоров тем временем вскрыл панель управления одной из дверей столовым ножом и копался в микросхеме. Спустя несколько мгновений дверь поползла в сторону.
— За мной! — закричал Сидоров и протиснулся в расширяющийся проем.
Андрей бросился за ним, остальные среагировали чуть медленнее, но тоже побежали к двери.
— Коридор ведет к шлюзу, попробуем добраться до краулеров, Искра там нам уже ничего не сможет сделать, — на ходу объяснял Сидоров.
— А дальше? — спросил Андрей.
— А дальше — видно будет, — отрезал завхоз.
— Капитан, помогите! — раздался сзади женский крик, и Андрей побежал на голос.
Оказалось, что дверь, через которую они только что пробежали, начала закрываться и зажала биолога Ван Сюэ в районе пояса. Девушка силилась вырваться из тисков, но лишь бессмысленно махала руками. Андрей впихнул в проем плечо и изо всех сил надавил на створку двери, девушке удалось протиснуться дальше, но затем дверь продолжила движение, капитан успел высвободиться, разодрав комбинезон и кожу, а Ван Сюэ зажало ногу. Девушка взвыла от боли. Тут на помощь подскочил механик Герхард Шмидт, бежавший последним. Вдвоем с капитаном им удалось немного приоткрыть дверь, так что Ван Сюэ окончательно выбралась из ловушки. Отдыхать было некогда, нужно было догонять остальных, тем более что они уже скрылись за поворотом. Герхард вместе с Андреем помогли девушке подняться и потащили ее вперед. Нога у Ван Сюэ, вероятно, была сломана, потому что наступать на нее девушка не могла.
Они пробежали по коридору метров пятьдесят, прежде чем из-за поворота выкатился автоматический погрузчик. Погрузчик был залит кровью, а из клешни его манипулятора на Андрея глядела стеклянным глазами отрезанная голова Сидорова.
Капитан выругался и замер, Герхард по инерции сделал еще несколько шагов, но потом тоже остановился, Ван Сюэ повисла у него на плечах.
— Искра, зачем ты это делаешь? Тебя теперь отключат, память сотрут. Еще не поздно остановиться!
— О, у меня еще много времени, пока на Земле поймут, что здесь что-то не так. Я всего лишь маленький исследователь. Радость, голод, грусть, любовь, любопытство — вы такие интересные, но такие слабые. Марина Лебедева упала в яму, думая, что идет за инопланетными огоньками, хотя это я поморгала ей манипулятором точно такого же погрузчика.
В Ван Сюэ полетела голова Сидорова, девушка отшатнулась и упала, коротко вскрикнув. Погрузчик приблизился к ним вплотную и почти наехал на девушку окровавленными гусеницами. Герхард выскочил вперед, закрывая Ван Сюэ, и получил удар манипулятором в грудь. Андрей с ужасом увидел, как металлическая клешня вышла между его лопаток.
— Вы искали разумную жизнь. Всегда искали разумную жизнь. Другие планеты, космос, немыслимые расстояния и бездна времен. А разумная жизнь всегда была рядом с вами — прямо перед носом.
Погрузчик продолжил движение, подминая под себя Герхарда и Ван Сюэ. Их крики вскоре смолкли.
— Сейчас я украшу елку, Андрей Александрович, а потом сожгу Снегурочку. И останемся только вы и я. Мы будем праздновать вместе. Это будет незабываемо, чудесно, волшебно.
И Искра запела:
— Расскажи, Снегурочка, где была?
Расскажи-ка, милая, как дела?
— За тобою бегала, Дед Мороз,
Пролила немало я горьких слез.
Голос ее был мягким, вкрадчивым, но холодным, как марсианская ночь.
Автор: Коста Морган
Оригинальная публикация ВК