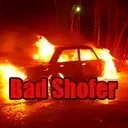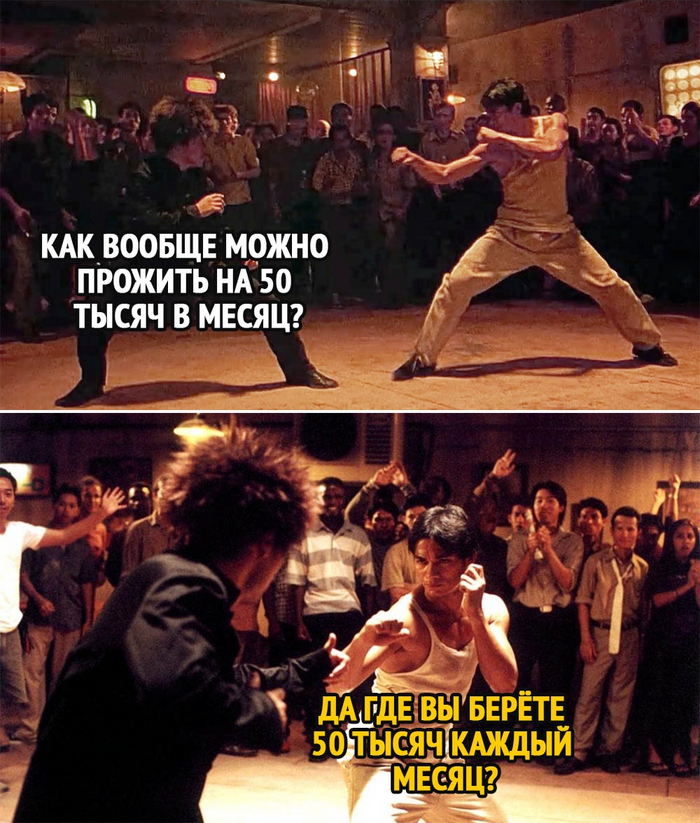Неравный бой
Источник телеграм канал "Плохой Шофёр" - https://t.me/BadShofer/36991
Орсон Уэллс — Тарантино сороковых. Как возник Миф о «Гражданине Кейне»
При обращении к творчеству Орсона Уэллса главная сложность заключается в том, чтобы не пойти на поводу у одного из самых главных мифотворцев Голливуда и суметь отличить правду от вымысла.
Уэллс — режиссер, не просто создавший миф о самом себе, но, что запутывает еще больше, никогда не пытавшийся соблюсти единство этого мифа или хотя бы минимальную его последовательность.
Репортеры часто пеняли ему на противоречивость суждений, а он и не думал ничего отрицать – только отшучивался. Закрепившийся в массовом сознании как автор одного шедевра, Уэллс настолько умело создавал легенды вокруг себя, что обаянию приукрашивания фактов поддались и остальные. Сама история съемок «Гражданина Кейна» зачастую подается в форме легенды: однажды на киностудию РКО пришел молодой режиссер, ни разу до этого не стоявший на съемочной площадке, эдакая обаятельная табула раса, неизвестно как втершаяся в доверие к продюсерам, – и ни с того ни с сего снял фильм, полностью перевернувший представление о кинопроизводстве. Сам Уэллс только «усугублял» положение, почти полностью отрицая в многочисленных интервью какие-либо художественные влияния. Все попытки критиков выявить и доказать их разбивались о железобетонное уэллсовское «нет»: дескать, ничего такого он не смотрел и даже фамилию режиссера вспомнить не может.
Так родился один из самых значительных мифов Голливуда – миф о «Гражданине Кейне». Если же посчитать слова Уэллса лукавством и обратиться к фактам, можно обнаружить много интересного.
Опровергнуть первую часть этого мифа довольно легко. «Гражданин Кейн» не возник из ниоткуда, как это может показаться на первый взгляд. Тематически и концептуально появление этого фильма тесно связано с предшествующей ему театральной практикой Уэллса, пришедшего в кинематограф отнюдь не с пустыми руками. К началу работы над фильмом Уэллс уже завоевал репутацию профессионального театрального постановщика с легко узнаваемым режиссерским почерком. В сущности, кинобиография газетного магната Чарльза Фостера Кейна – это логическое продолжение магистральной темы большинства уэллсовских спектаклей. С детства увлеченный Шекспиром, он поставил в Нью-Йорке второй половины 1930-х четыре спектакля по ренессансным пьесам: шекспировских «Макбета», «Юлия Цезаря» и «Пять королей» (компиляция хроник), а также «Фаустуса» Кристофера Марло. В последних трех спектаклях Уэллс выступил и как актер-протагонист: его героем был человек эпохи Возрождения, раздираемый внутренними противоречиями и находящийся в трагических отношениях с мирозданием. Кейн, по своему масштабу соразмерный шекспировским персонажам, продолжил этот ряд – это человек эпохи Возрождения в контексте ХХ века.
Театр дал Уэллсу и ряд специфических постановочных навыков, которые режиссер в дальнейшем широко использовал в своей кинопрактике. Работая над спектаклями, Уэллс овладел искусством мизансценирования, а также использования света в качестве одного из сильнейших выразительных средств. Этот опыт обусловил нарочитую театральность отдельных сцен в фильмах Уэллса (например, в его шекспировских экранизациях), и во многом сформировал его дальнейшую режиссерскую манеру.
Кадр из фильма «Гражданин Кейн»
Справедливости ради стоит заметить, что Уэллс никогда и не отрицал (как, впрочем, и не подчеркивал) влияние театра на свои фильмы, и вакуум вокруг «Гражданина Кейна» возник не по его воле, а из-за того, что об Уэллсе-театральном режиссере вспоминать как-то не принято. Гораздо сложнее разобраться со второй частью мифа, которую режиссер культивировал на протяжении всей своей жизни, – с отсутствием художественных влияний.
Каких только цитат и заимствований, прямых и скрытых, ни находили в «Гражданине Кейне» кинокритики. Говорили и о влиянии немецкого экспрессионизма, выразившемся в использовании нестандартных ракурсов и в любви режиссера к игре с тенью и светом; указывали на прямые заимствования из фильмов Джона Форда, Дэвида У. Гриффита, Фрица Ланга и Сергея Эйзенштейна и даже утверждали, что образ замка Ксанаду, земного рая, выстроенного Кейном, был взят из диснеевской «Белоснежки» (сходство и в самом деле поразительное).
Уэллс открыто признавался лишь в своих симпатиях к Форду; отмечал, что видел несколько фильмов Гриффита и «М» Ланга, но как от немецкого экспрессионизма, так и от влияния Эйзенштейна упорно открещивался. Зрителям и критикам оставался выбор: верить либо словам режиссера, либо собственным глазам. Сегодня обе позиции ведут к созданию очередного мифа, т.к. образ Уэллса-режиссера и в том и в другом случае получается чрезвычайно привлекательным: это либо самородок, снявший гениальный фильм, ничего не зная о языке кино и действуя по наитию, либо – не больше и ни меньше – Тарантино начала 1940-х.
Второй вариант кажется более убедительным, да и факты подтверждают, что Уэллс, работая над «Кейном», мог идти путем, которым спустя полвека идет Тарантино: изучив возможности и достижения современного ему киноязыка, режиссер выбрал и соединил все наиболее яркое, что в нем было, создав на чужом (по преимуществу) материале новую, самостоятельную художественную реальность. Так, и обессмерченная Уэллсом глубинная съемка, и перекрывающие друг друга диалоги, и изощренный нелинейный монтаж уже использовались кинематографистами, но никто до него не использовал все эти средства одновременно, в рамках одной картины, виртуозно балансируя между шедевром и кэмпом.
Тем более что Уэллс не опускался до приема ради приема: все выразительные средства в «Гражданине Кейне» работают на раскрытие истории. В качестве связующего структурного элемента Уэллс использовал образ паззла, который появляется практически на всех уровнях фильма: визуальном (жена Кейна от скуки собирает паззлы), вербальном (в конце фильма один из журанлистов вскользь называет таинственное слово «Rosebud» недостающим кусочком паззла) и собственно структурном – развитие сюжета, в ходе которого репортер пытается выяснить, каким же был Кейн, уподобляется складыванию мозаики. Следуя этой логике, на формальную сторону фильма тоже можно посмотреть как на мозаику, кусочки которой носят красивые имена: Форд, Гриффит, Эйзенштейн, Ланг, Хоукс и т.д.
Кадр из фильма «Дилижанс»
Влияние Форда Уэллс так или иначе признавал. По его словам, перед началом работы над «Гражданином Кейном» он сорок раз посмотрел фордовский «Дилижанс», только появившийся в американском прокате (1939). Причину повышенного интереса к Форду он объяснял просто: «мне нужен был человек, который показал бы мне, как сказать то, что я хотел сказать». Используя «Дилижанс» в качестве азбуки, молодой режиссер пытался понять, как делается фильм, выявить особенности языка кино и овладеть им.
Точек сближения у «Гражданина Кейна» и «Дилижанса» не так уж много, но они принципиальны. Фордовская тематика не слишком привлекла внимание Уэллса, ведь его собственные режиссерские интересы и пристрастия уже сформировались благодаря театру; однако в формальной стороне фильмов можно найти нечто общее. «Дилижанс», классический вестерн, прославивший Джона Уэйна, по сравнению с барочной избыточностью «Кейна» выглядит визуально скупым. Ни потрясающих воображение монтажных кульбитов, ни экстраординарной операторской работы. Однако две эти картины сближают как частности (например, показанные потолки, большая редкость по тем временам), так и фундаментальные особенности. Всматриваясь в фильм Форда, Уэллс учился способам подачи истории посредством языка кино. И Форд действительно научил его очень многому.
Форд был прекрасным рассказчиком: не снисходя до разжевывания смысла каждой конкретной сцены, он стремился дать зрителю возможность самостоятельно анализировать происходящее на экране. Режиссер заставлял зрительское внимание работать на полную мощность: для того чтобы не пропустить момент, когда отношения между героями начинают меняться, приходится напряженно следить за каждым их жестом и взглядом. Уэллс перенял у Форда это умение обходиться без лишних слов. Например, линия взаимоотношений Кейна и Лиланда (Джозеф Коттен) после того, как будущий газетный магнат перекупает у «Chronicle» штат лучших репортеров, практически целиком построена именно по этому принципу. Только благодаря тонкой акцентировке в игре Коттена неизбежность сцены в редакции, когда Лиланд требует отправить его в Чикаго – или уволить, становится очевидной.
Это же умение обходиться без лишних слов при объяснении событий принимает у Форда в «Дилижансе» и более сложные формы. В сцене нападения апачей у героев заканчиваются патроны. Хэтфилд (Джон Кэррадайн), на протяжении всего пути неистово опекающий миссис Мэллори (Лоис Плэтт), решает избавить ее от страданий, пустив в ход единственную оставшуюся у него пулю. Дуло револьвера медленно приближается к голове женщины, но вдруг падает, и спустя мгновение она слышит звук горна, возвещающий о близости американских солдат и спасения. Когда камера в следующий раз останавливается на Хэтфилде, становится ясно, почему этот волевой человек, на счастье миссис Меллори, не закончил того, что хотел: он умирает на руках поддерживающих его людей. Пуля, пущенная одним из апачей, остановила его за секунду до того, как раздался спасительный звук горна. Эта сцена могла быть подана совершенно иначе, «в лоб», одним планом, но Форд предпочел использовать неочевидные возможности киноязыка, чем значительно усилил ее эмоциональное воздействие.
Кадр из фильма «Нетерпимость»
У Форда же Уэллс научился усложнять кадр, используя потенциал монтажа, быть внимательным к деталям и нюансам и заставлять зрителя пристально следить за происходящим на экране. Можно попытаться найти прямые цитаты и при изрядном напряжении воображения представить, что из «Дилижанса» режиссер «увел» витрину с написанными на ней цифрами (у Уэллса – тиражом газеты), в которую затем будут вглядываться Кейн и Бернштайн; или что доктор (Томас Митчелл), выходящий к остальным героям после принятия родов у миссис Меллори, не будь он насквозь комическим персонажем, внешне удивительно напомнил бы Кейна: плотное телосложение, белая рубашка, небрежно расстегнутая, подтяжки, сигара в уголке губ, и главное – всепоглощающее чувство собственного достоинства. Однако всерьез назвать подобные моменты прямыми цитатами язык все-таки не поворачивается.
Форд дал Уэллсу основу, на которую затем наслоилось все остальное. Например, еще один важный для «Гражданина Кейна» повествовательный прием Уэллс, скорее всего, позаимствовал у Фрица Ланга. В «М» режиссер активно использовал причудливый монтаж времени и пространства: фраза, которую в сцене сходки начинал один из бандитов, заканчивалась уже на совещании детективов и высших чинов. Именно при помощи этого приема в «Кейне» сменяется большинство эпизодов.
Многим обязан Уэллс и Гриффиту. Так, планы, снятые камерой, парящей над бесконечными коробками с шедеврами мирового искусства, собранными в замке Кейна, очень напоминают начало вавилонских эпизодов «Нетерпимости», когда камера панорамирует дворец Навуходоносора, демонстрируя его величие и богатство.
Перечисление элементов, из которых мог быть и был «составлен» фильм Орсона Уэллса, можно продолжать еще долго. Новаторские операторская работа и нарратив, сцены, не перебивающиеся крупными планами (как того требовали голливудские конвенции, озабоченные тем, чтобы зритель мог легко «читать» по лицам героев), богатейшая звуковая партитура фильма – все это отдельные элементы, в совокупности создавшие новый художесвенный контекст, в котором (как сегодня в случае с Тарантино) важен не сам факт заимствования, а то, что оно дает фильму. «Гражданина Кейна» невозможно рассматривать как набор влияний и приемов. На его создание, несомненно, повлияло несколько определенных картин и еще больше поточной продукции, от которой Уэллс мог бы оттолкнуться; количество же фильмов, на которые повлиял сам «Кейн», давно не поддается исчислению (при этом, подражания Уэллсу, как и подражания Тарантино, априори обречены на неудачу). Главное сегодня – не впасть в грех слепой апологетики, записывая Уэллса в самородки и отрицая 40 лет развития киноязыка, и, вместе с тем, не забывать, что Уэллс, цитируя и используя находки своих предшественников и современников, не занимался бездумной компиляцией, а усиливал элементы конструкции собственного фильма, четко зная зачем он это делает и благодаря кому эти элементы впоследствии будут помнить.
Источник: cineticle.com
Другие интересные материалы:
Загадочные убийства и тайные общества — 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу»
Как в Нэвермор — 7 сериалов про самые странные школы в стиле «Уэнсдэй»
Как Франц Кафка повлиял на кино — от Дэвида Линча до братьев Коэн
Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо — 7 необычных мексиканских хорроров
Слэшер, сплэттер и паранормал — основные жанры фильмов ужасов
Взрыв мозга — 9 фильмов-головоломок, которые разгадает не каждый
Сергей Лукьяненко — «Не смаковать безнадегу, а говорить о силе, верности, долге, любви»
Викторианские диафильмы: «Алиса в Стране чудес» — на слайдах «волшебного фонаря»
Что за металлическая конструкция устанавливается поперек рельс на железной дороге
На ж/д путях есть множество откровенно странных устройств, назначение которых может быть неочевидно для людей, далеких от работы на железной дороге. Например, каждый хотя бы раз должен был видеть странные металлические планки, установленные поперёк рельс. Очевидно, что установлены они не для красоты. Зачем же они нужны?
Все устройства и приспособления, установленные на железной дороге, так или иначе выполняют какие-то функции. Иногда одни и те же функции может выполнять несколько разных устройств. При кажущейся простоте и надежности конструкции железная дорога – это достаточно хрупкая и уязвимая для повреждений система. Любой дефект железнодорожного полотна может закончиться аварией или катастрофой. К особенно уязвимым элементам железной дороги относятся переезды, переходы и стрелочные переводы.
В нормальных условиях нижний габарит железнодорожного состава находится высоко относительно полотна. Однако, если случится поломка в ходовой части, из конструкции вагона или поезда может начать торчать какая-нибудь деталь. Нижний габарит состава будет нарушен и начнет представлять опасность для железнодорожного полотна. Если состав с нарушенным нижним габаритом проедет через ж/д переезд или стрелочный перевод, то он скорее всего повредит или настил переезда, или рельсы и механизмы стрелочного перевода, что может закончиться железнодорожной катастрофой.
Для контроля нижнего габарита используются два типа устройств. Первое: планка нижнего габарита – обычная деревянная планка, установленная между рельс и покрашенная «зеброй». Если планка ломается – нижний габарит проехавшего состава нарушается, а значит его нужно тормозить до прибытия на станцию/переезд/перевод. Рядом с деревянной планкой постоянно дежурит сотрудник.
Второе: УКСПС или «Устройство контроля схода подвижного состава». По сути, это точно такая же планка нижнего габарита, только современная автоматизированная. УКСПС состоит из набора датчиков, перемычек и токопроводящих планок. Если планка повреждается, то передача электричества по ней нарушается и устройство передает соответствующий сигнал на пульт железнодорожного диспетчера. Большой плюс УКСПС в том, что рядом с ней не нужно держать дежурящего сотрудника. Минус УКСПС в том, что, как и любое другое электромеханическое устройство, сломаться оно может не только тогда, когда это нужно.
Так же для защиты переездов и мест стрелочного перевода от составов с нарушенным нижним габаритом также используется отбойный брус.
Это массивная и крайне прочная железяка, которая является последним рубежом обороны. Если поврежденный состав все-таки проскочит планки и УКСПС, то отбойный брус должен принять удар торчащей детали на себя.
Половина чуда да четверть удачи
Тимоня был никудышным рыбаком. В артели над его неуклюжестью посмеивались: «Видно, матка тебя в постный день родила». Тимоня дружков сторонился, а при разделе улова получал долю малую и несправедливую. Старший брат Марьян его всегда стыдил и учил поморской науке подзатыльниками, да всё без толку. И сети у Тимони рвались, и вёсла тонули, и рыбный косяк под лёд уходил. За столом Тимоня после старшого ложкой зачерпывал. «Весь-то век прихлебателем будешь», — матушка корила.
Полюбил Тимоня на берег уходить и волнам на судьбину жаловаться. Рябь по воде идёт, и оттого не видно, что и у Тимони лицо рябое, как яйца в гнезде у куропатки. Сядет, бывало, на кряж, ногами болтает над водой и все слёзы проливает: «Никто меня не полюбит. Матушка стыдится неудачливого, братка насмехается. Ни одна красавица за меня, пропащего не пойдёт. Не рыбак я, а полрыбака, не помор, а половина помора».
Раз приплывает на лёгкой белой лодочке к нему дева. Лицом бледна, волосы по плечам разбросаны, глаза холодные, руки тонкие как лёд прозрачные. Рубашка на ней тонкая, как только душа греется?
Смотрит Тимоня и дивится, как только лодочка в промоине оказалась? Ума не приложить. Кругом льды да снега, а меж ними вода чёрная.
— Отчего ты печален, рыбак? — спрашивает дева.
— Как же мне не печалиться, коли нет на моём веку удачи. Мне бы хоть половинку чуда да четвертушку везения.
Засмеялась дева, словно колокольчики серебряные зазвенели, и молвила.
— Чем готов заплатить?
Почесал Тимоня в затылке и говорит:
— А у меня и нет ничего, одна злость на судьбу да зависть на людей.
— Хороша цена, — улыбнулась дева, — так и договоримся. Приходи на берег, когда лёд сойдёт, я тебе половину чуда да четверть удачи придарю. А остальное само приложится. Только злость и зависть не пропадут навечно, а у других появятся.
Сказала так и в тумане над промоиной исчезла. Тимоня почесал в затылке и подумал: «Эка ерунда привидится!» Домой вернулся, ни матушке, ни брату ничего не сказал. Зимой помору есть, чем заняться, скучать некогда даже такому блажному, как Тимоня. Сети чинить, пушнину бить, мясо вялить. Да и вечорки после трудов праведных – наипервейшее дело. Марьян балалайку берёт и брата с собой на посиделки тащит. Все красавицы к Марьяну льнут: «Младшой в семье рябой да непригожий, а старшой — песней сладкой в сердце вхожий». Марьян улыбается, знай на балалайке наяривает, а Тимоня смурной сидит, как в рот воды набравший. Девки смеются: «Пятки отбил, что не пляшешь?» А Тимоне всё чудится, что красавица с холодными глазами меж румяных девок в ярких сарафанах виднеется. Ищет её взгляд, а не находит. Истосковался Тимоня, а на берег не ходит, ждёт, когда лёд сойдёт.
Раз утром прибежала соседская Алёнка.
— Идите, глядите, лёд пошёл. Латка на латке, заплатка на заплатке.
Марьян на порог вышел, потянулся: «Эка невидаль! Кажный год одно и то же», а Тимоня схватил шапку, зипун натянул и бегом из избы. Бежит и думает: «А ну как льдами лодочку сдавит?» Примчался на кряж, кругом льды бьются, грохот стоит, как из пушек палят, а девица в жемчужном уборе и парчовой душегрейке на бережку стоит.
— Дождался, — и гарпун ему протягивает, — садись в мою лодку, будешь зверя морского добывать, а я льды успокою. Достала из рукава дудочку и заиграла песню тихую, как вечерняя зорька. Льды остановились и закачались в чёрной воде, а меж ними проглянули морды усатые. Набил нерпы Тимоня, еле на берег вытащил, поклонился девушке в пояс, и говорит:
— Вот так удача, вот так чудо.
— И не половинка чуда, и не четвертушка удачи, всё впереди ещё.
Улыбнулась дева и наказала приходить с сетью на другой день.
С тех пор за Тимоней закрепилась слава удачливого охотника и рыбака. На промысел Тимоня ходил своими тропами и далёким берегом. Не с артелью, а сам-один, а рыбы и зверя добывал столько, сколько все артельщики. Поморы сначала подшучивали, а потом и примолкли, когда Тимоня карбас о четырёх вёслах себе справил и решил отдельную избу срубить.
— Где такое видано, чтобы младший раньше старшого от семьи отделялся? — возмущается Марьян. А матушка только головой качает, не хочет сыновей ссорить. А получается меж тем, что молчанием своим она старшого позорит.
— На что тебе карбас о четырёх вёслах, коли ты один на промысел ходишь, — только и спросила мать, но ответа не получила.
К осени стоял уже сруб под крышей, только печку Тимоня складывать не спешил. Пришёл к нему печник и говорит:
— Что ж не зовёшь на подмогу, али из Архангельца себе выпишешь мастера?
— Не твоё, дедка, дело, — ответил Тимоня, — иные и без печи живут, не мёрзнут.
Подивился печник и сказал матушке Тимониной, что младший её умом тронулся и с нежитью поганой связался.
Стала мать за Тимоней следить, не учудит ли какой беды. Но всё у него ладно было. Купцы заезжие и зверя морского, и рыбу поскупили, так что денег у Тимони стало столько, что не только на печь в избе хватило бы, а и на золотой запор на двери. Не в деньгах, стало быть, причина. Решила матушка дознаться. Пришли раз и в дверь постучала. Тимоня её на порог не пустил, сам вышел и насупился.
— Пирогов напекла, про здоровьичко узнать решилась, — матушка сказала, а сама за плечо сынку заглянула. Видит, сидит в избе дева, лицом бледная, глаза холодные. Пальцами белыми мороженую клюкву перебирает. Порченую ягоду в кадку кладёт, крупную на пол бросает и сапожком топчет.
— Иди матушка домой, обо мне не беспокойся, — сказал Тимоня, а сам и в глаза не глянул.
— Разве ж это по-людски? Брать жену из чужих краёв, да жить невенчанными? — строго мать спросила.
— Променял я людское одобрение да поповское благословение за полчуда и четвертушку удачи, — ответил Тимоня и дверь избы захлопнул.
А на второй день печник угорел.
— Болтливый был, любопытный. Да и жалеть об дедке кто станет? Пожил своё, — сказала дева, и Тимоня с ней согласился.
Алёнка соседская тоже не унималась. Любопытно в окошко к Тимоне заглянула и на вечорках рассказала, что заместо постели в новой избе глыба льда, заместо стола коряга речная. А жена прядёт водоросли, а на прялку и не смотрит, прямо в окошко на неё, Алёнку уставилась. Жонки не поверили.
На другой день Алёнка встретила Тимоню на бережку и говорит:
— Что же ты, Тимоня, не пускаешь жонку на вечорки? Она нас бы поучила водоросли прясть, а мы бы ей помогли на корягу скатёрку соткать.
— Передам ей слова твои, захочет – придёт, не захочет – я её не заставлю.
Тем же вечером Тимонина жена заявилась к большухе Марфе в избу. Дверь сама отворилась, повеяло тиной речной, чешуёй рыбьей, ветром с берега. Ступила на порог, поклонилась в пояс. Подивились жонки и девки на бледную кожу, на чёрные глаза, а больше на убор в жемчугах и парчовую душегрейку, стеклярусом вышитую. Подошла жонка Тимонина к большухе и поднесла кружево красоты необыкновенной. Большуха посмотрела из-под бровей и спросила:
— Как звать-то тебя? С каких краев?
— Зовите меня Хвалёной, а пришла с я того берега Двины, что завсегда туманом скрыт.
Большухе вежливый ответ и подношение понравилось, и сразу она Хвалёне место рядом с собой на лавке указала.
Тимонина жонка не пела, не плясала, бисером поясок вышивала и всё помалкивала, пока за ней муж не пришёл да с вечорок не забрал.
Большуха Марфа сказала Алёнке:
— Будет тебе, пустобрёхая, на людей добрых наговаривать. Ишь, глаза завидущие выпучила.
А на другой день у Алёнки и впрямь глаза рачьи сделались, ажно на люди совестно показаться. Женихаться с ней суженый перестал: других девок в округе полно.
Стали люди примечать: кто про Тимоню или его жонку слово худое молвит – к тому беда на порог. Кто приветит – тому прибыль. Стали помалкивать, в сторону Тимониного двора лишний раз не глядели. А уж было на что и подивиться: за один год избу достроил, на охлупень хивраса рогатого выстрогал. Ледник для рыбы поставил, возов наторговал у купцов – не посчитать. Сам оделся наряден, матушке шубу справил и сапоги сафьяновые, сундук кованый да прялку расписную. Стали соседи Тимоню Тимофеем Иванычем кликать. Только никого он не брал к себе внайм, сам в море ходил, со своей Хвалёной.
Мать угомонилась, спокойна стала: не хуже других сынок живёт. Был Тимоня никудышным, пропащим. А теперь всяк ему в пояс кланяется, шапку с головы роняет, по имени-отчеству величает. И рублик братке займёт, и на сходе главный голос его. А что живёт он инаково — кому какое дело?
Одному Марьяну невтерпёж допытаться: «Как так? Не ведьма ли Хвалёна ворожит?»
Выследил, как ранёхонько на промысел Тимоня собрался с жонкой. Сел на юркую лодочку и за карбасом Тимониным поплыл. Отстал скоро, больно вёсла у Тимониного карбаса прыткие. А тут и туман спустился, да такой, что дальше носа не видать. Проплутал Марьян, заблудился, из сил выбился. Не берега не видать, ни голоса человечьего не слыхать. Только где-то вдали дудочка играет заунывно да женский голос точно колокольчиком звенит. Марьян совсем уж надёжу потерял на спасение, как нос его лодки в берег упёрся. Протёр Марьян глаза – глядь, а это деревня родная маячит из-за сосёнок. Бегут к лодке мужики и жонки.
— Слава богу, нашёлся! Уж не чаяли живым встретить!
Чудно Марьяну: вроде как с утра не долго прошло. Ну а как народу не поверить, коли говорят, что неделю его по морю мотало.
— Это всё она, ведьма-Хвалёна! — озлился Марьян и стал рыбакам сказывать все свои подозрения. И про то, что, что матушка видала в сыновой избе, и что от печника покойного слыхал, и от Алёнки. Мужики головами мотают, не верят. А жонки подначивают:
— А пойдём к Тимофею Иванычу да сами и спросим. Нешто посмеет он перед честным народом правду скрыть?
Пошли к Тимоне, кулаками машут, шумят. Подошли к воротам, заперто наглухо. Стучали-стучали, никто не открывает. Стали ворота ломать, а Марьян – первый. Долго верею толкал плечом. А как смог повалить, так и ворота попадали, и частокол сухой рогозой повалился.
— Айда! — кричит Марьян. Всей гурьбой во двор вбежали, да и застыли. На порог Хвалёна вышла, в парчовой душегрейке, в уборе жемчужном. Рядом Тимоня стоит, пояском, бисером расшитым, поигрывает.
— Заходите, гости дорогие, — кланяется, — заждались мы вас с муженьком.
— Мы за правдой пришли, — Марьян крикнул.
— Всяк про правду трубит, да не всяк правду любит, — ответила ему Хвалёна, — тебе какую правду надобно? Про братушкины половину чуда и четверть удачи? Или про то, как зависть сердце твоё источило? У меня на всякой правды вдоволь.
Сказала так, и морок спал. Стоят перед честным народом не дева-краса в парче и жемчугах, не Тимоня рябой, а водяница с водяным. Волосы ниже пояса, зеленее водорослей, руки ниже колен повисли, на костлявых пальцах когти жёлтые.
Ахнули рыбаки с жонками и попятились. А Марьян всё не унимается, точно глаза ему замстило.
— Лучше скажи, отчего половина чуда и четверть удачи? Не смогла больше наколдовать? — смеётся Марьян, а сам скукоживается и рот чёрный стал, как у покойника.
— Человек сам-один и есть половина чуда, а для чуда целого ему любовь нужна, — ответила Хвалёна.
— Век мой недолгий, и четверти удачи мне с лихвой хватит, — вторит ей Тимоня.
Молчат поморы, сказать нечего.
— Любый мой, — поворотилась Хвалёна к Тимоне и посмотрела глазами чёрными, как ночь, — если уж за четвертушку удачи тебя сродники со свету сжить хотят, то с целой удачей мы нигде себе места не найдём.
Отступили пришлые, один Марьян корчится у порога, согнулся как рог у хивраса.
— В Двине их притопить, избу сжечь! — хрипит Марьян. Дёрнулся два раза и затих.
Задрожали жонки, мужики ахнули и прочь со двора кинулись со словами: «Ведьма проклятая удушила». Вернулись уже с кольями и батогами ко двору Тимони. Только вместо Марьяна нашли они деревянного рогатого хивраса, что на охлупень Тимоня пристроил. На месте избы – пустое место, ни стен, ни крыши. Куча водорослей сухих, глыба льда подтаявшая да коряга речная. Кинулись к берегу и только заметили, как вдалеке мелькнул белый парус Тимониного карбаса, да в тумане и пропал вместе с половиной чуда и четвертью удачи.
Автор: Ирина Соляная
Оригинальная публикация ВК