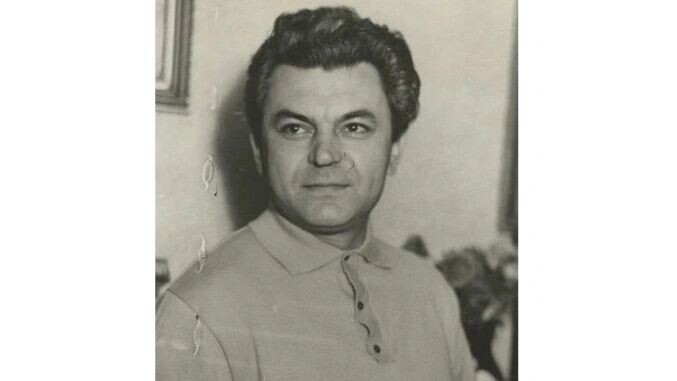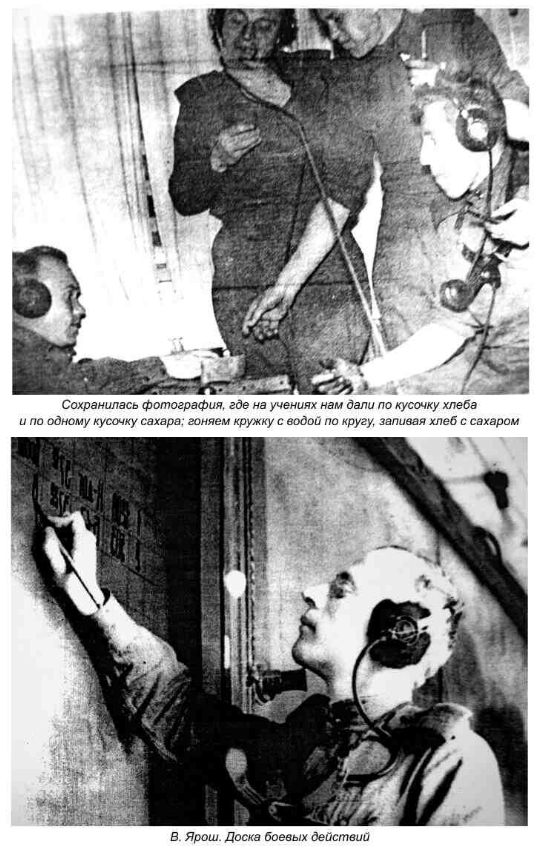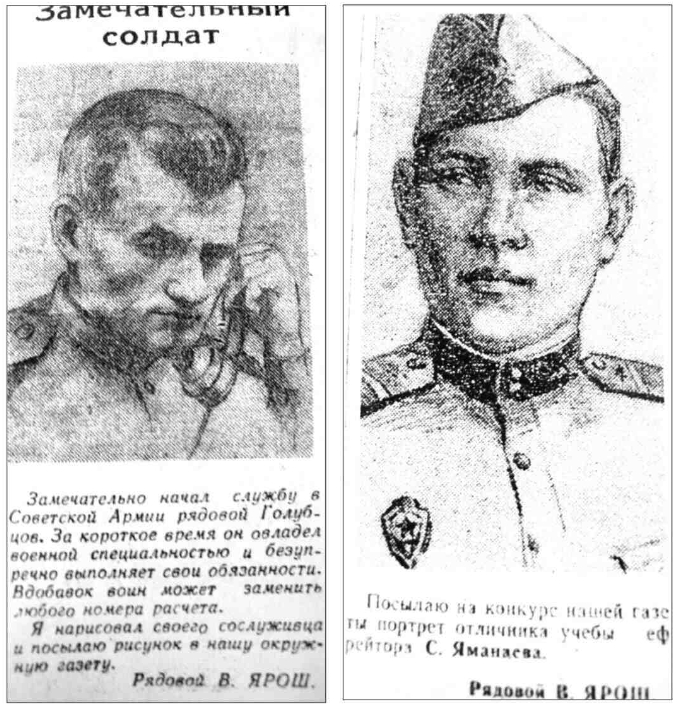Служившие со мной девчата носили военную форму, и отношение к ним было деловое. Почему-то мне стало стыдно дальше идти. Назад? А куда? Переборол себя, направился на факультет. Вижу, там ходят тоже служивые. Половина присутствующих - парни. Стало легче. За столом принимала документы чернявая, с симпатичным лицом девушка, лаборантка с кафедры рисунка. Передо мной стоял заочник и перечислял предметы, которые он сдал. От его перечня у меня подкосились ноги.
Математика устно, математика письменно, физика и так далее. Всего семь предметов. А я готовил иностранный язык. Не знал об изменении условий приёма. Сразу же представилась армия, ребята моего отделения. Желающих учиться было много. Отпустили меня. Если не поступлю, будет стыдно перед ними. Передо мной внезапно возникла огромная стена. Как перелезть? Подхожу к девушке, объясняю своё положение.
- Мне нужно поступить. Что делать?Где найти преподавателя Дудина?
- Преподаватель уже не работает. Попытайся всё-таки сдавать экзамены, только не снимай военную форму (целый год носил военную форму, и на занятия и на работу, пока не заработал на гражданскую одежду).
Отправился в Колпино к Володе Гринику. Меня встретила его мама.
- Володя тоже должен приехать.
И через час или два появляется Володя. Он поступает в тот же институт, только на исторический факультет. Я безмерно благодарен и Володе, и его добрым родителям. Они создали все условия для моей подготовки. Сказалась и армейская закалка. Распорядок дня был прост. С семи утра до десяти вечера изучение материала. Отдых только при приёме пищи. В десять вечера шёл на реку Ижору, холодная вода снимала усталость. В одиннадцать вечера отбой. И так до экзаменов каждый день. Володя мне доставал вспомогательный материал по математике, физике, литературе. Я заучивал многоэтажные формулы по тригонометрии, решал многочисленные задачи. Невидимая стена, стоящая передо мной до экзаменов, исчезла. Сдал все экзамены. На собеседовании декан сказал, что стипендии и общежития не будет.
- Что буду делать? - думаю я, - возможно, он проверяет меня, и я ответил, что у меня всё есть, ничего не надо. Он дал заключение, что принят. При выходе от декана ко мне подходит неизвестный парень, спросил, поступил ли я. Ответил утвердительно.
- Тогда пойдём со мной, по дороге расскажу куда.
Теперь мне было всё равно куда идти. Вышли на улицу, прошли по территории института. Он действительно рассказал, куда мы идём, что нас ждёт руководитель академического хора. Когда мы поднялись на второй этаж, я увидел перед актовым залом в безлюдном огромном вестибюле одиноко сидящего за роялем человека. Я сдал ему ещё один экзамен «по пению» и получил две четвёрки. Так я стал ещё и участником хора. Занятия проходили по семь часов в неделю. Мне нравилось, тем более, что раньше пел в школьном хоре. Но, когда занятия в хоре стали совпадать с набросками с обнажённой натуры, к сожалению, пришлось хор бросить. Считаю полезным для студентов начинать учебный год с работы в совхозе. Кроме помощи совхозу, мы знакомились. Там же создавался дружный студенческий коллектив с необходимыми положительными качествами. Впоследствии при необходимости оказывалась взаимопомощь.
Мы совместно ходили на этюды, в выходные дни с палаткой ездили в укромные уголки Ленинградской области (побережье Ладожского озера, Шапки, Пятнадцатый километр и др.) Начались занятия. Стал думать о работе. Старшекурсники посоветовали мне устроиться дворником на территории института. Будет и жильё рядом, и деньги. Начальник ЖКХ предварительно обругал тех студентов, которые работали до меня, что они ленивые. Но видя меня в военной форме, принял. Поселился в рабочее общежитие в большой комнате с окнами на Казанский собор. Из окна видна часть Невского проспекта, Дом книги, памятники Кутузову, Барклаю де Толли. В комнате жили студенты с разных факультетов, больше со спортивного и физического, которые работали в институте вахтёрами, уборщиками и т.д. Каждый обладал какой-то особенностью. Физик Вася Полевиков, полный и ленивый, насколько помню, он всё время спал. Но он помогал всем нам успешно сдавать экзамены. Когда ктото шёл на экзамен, Вася медленно поднимался, просил «копеечку» и кидал её наудачу в форточку, в сторону Казанского собора и Плехановой (Казанской) улицы. После брошенной «копеечки» мы уверенно шли на экзамен и хорошо сдавали. А Вася ложился снова в койку.
А ещё у Васи было хобби. Имея нежное круглое лицо, Вася надевал женскую шубу, головной убор и выходил к Казанскому собору «клеить» парней. От девушки его невозможно было отличить. Разве только обувь. Да на неё никто не смотрел. Возвратившись, нам рассказывал о впечатлениях своего похода. Над его головой висело радио. Иногда он его включал. Не забыть, как однажды Вася включил, а из радио прозвучало слово «дурак», и тут же выключил. Больше Вася радио не включал. Странное и редкое совпадение. Видимо, передавали спектакль. Спортсмен Сергей Крючек, поднимаясь, медленно потягивался и всегда говорил: «Нет здоровья». Думал, и правда. И вдруг по радио слышу, что на первенство Ленинграда Сергей Крючек занял третье место на дистанции восемьсот метров. Видел его на стадионе во время забега, где Сергей бежал метров на пятнадцать впереди основной группы. Рядом со мной была койка студента со спортивного факультета Толика Пинчукова, тоже поступил в институт после армии. Служил на самой южной точке страны в г. Кушка. Через полвека он находит меня по интернету и совсем недавно, неожиданно для меня, получаю звонок от него. Распределялся он в Колтуши под Ленинградом учителем физкультуры. Сейчас живёт в Украине. С удовольствием общаемся по интернету, поздравляем друг друга с праздниками. Работа дворником занимала у меня только утреннее время. До восьми утра работал, потом на кухне готовил завтрак, в девять бежал в фундаментальную библиотеку, законспектировать классиков для выступления на семинарах, и в девять сорок пять на занятия. Хорошо, что всё было рядом. Бывало, сидишь на лекции, внимание переключается на общежитие. Думаю, а выключил я газ? У меня там кастрюлька с картошкой стояла. Начинаю ёрзать на стуле, нетерпеливо ждать окончания лекции. На перемене бегом в общежитие. Иногда кто-то выключит газ и спасёт картошку, а было и так, что, прибегая, видел полностью до белизны выгоревшую алюминиевую кастрюлю.
Вспоминается забавный случай. Мы с Шершнёвым Жорой утром на работу вставали рано и старались с вечера раньше лечь. А тут ребята увлеклись гирей, и мы решили взять одеяло с подушкой и идти на крышу. У библиотеки стояли строительные леса. По ним поднялись на крышу и с сопровождающим металлическим грохотом направились к первому корпусу, а там на самом верху находилась ровная деревянная площадка. Возможно, с неё студенты наблюдали за звёздами. Мы, лёжа, тоже смотрели на звёзды и под звуки ночного города засыпали.
Как-то летом мы с женой Валентиной только что вернулись с моря, с Лермонтово. Неожиданно на пороге нашего дома в Краснодаре появляется Жора. Он рассчитывал вместе со мной поехать на Чёрное море. Ничего не поделать. Нужно составить ему кампанию, и мы на электричке доехали до Туапсе. Там на пляже отдыхающих было много. Жаркий день. Нам показалось скучным сидеть на одном месте, и мы решили раздеться до плавок и с рюкзаками на спине идти по берегу в сторону Джубги. По пути собирали обработанные морем деревянные ветки, корни. Мне попался корень, похожий на чёртика. С ним пошли дальше. Впереди перекрыла пляж скала, уходящая в море. Между скалой и основным массивом горы находилась узкая щель. Пройти через неё не решились, чтобы в ней не застрять. Чёртика я не выпускаю из рук. Понаблюдали за дном моря у основания скалы. При маленькой волне можно очень быстро проскочить опасное место.
Жора дождался самой маленькой волны и мгновенно проскочил. Я последовал за ним, но… Моя нога от сильного толчка поскользнулась, и через секунду мощная волна сбила меня с ног, потащила, как добычу, в море. Почувствовал, что, намокая, рюкзак всё сильнее прижимался к моему телу. А в нём одежда, одеяло, продукты. Попытался освободиться от него. Не получилось. Снова меня волна кинула на скалу. Уцепился руками за выступ в скале, сопротивляясь отходящейволне. Следующая волна меня с лёгкостью приподняла и снова унесла в море. Так я оказался во власти моря. Один за другим покидали меня босоножки, сопротивляться бесполезно. Я выставил вперёд руки, чтобы не удариться головой. Вдали на берегу вижу стоящих Жору и какого-то мужчину. Они смотрят на меня, но никаких даже попыток оказать помощь не предпринимают. Ведь у Жоры в рюкзаке были ласты. Но он, видимо, забыл о них. Из такого положения выбираться нужно самому. Сконцентрировался и при малой волне с силой оттолкнулся от дна моря, взлетев в сторону тихой воды.
Выбрался на берег. У меня ноги в синяках, дрожат. На пляже нашли банные тапочки, но в них в Краснодар не поедешь. Перелезли через гору искать босоножки. Море выкинуло только один босоножек. И дальше удивительно, но факт. Вышли на асфальтированную дорогу, несколько метров прошли и видим на дороге лежит связанная пара босоножек такого цвета, как у меня, только других. На опухшие ноги они не лезли. Их надел Жора, а мне дал свои. В них я добрался до Краснодара.
Учиться мне нравилось. Довольно серьёзным предметом была начертательная геометрия с теориями отражения и теней. По начертательной геометрии вступил в студенческое научное общество (СНО). Работал над темой, даже выступал с докладом, но серьёзного отношения к ней не получилось. Нужно было больше совершенствоваться в изобразительном искусстве. Начал посещать дополнительные занятия по рисунку, живописи. И этого было мало. Узнав, что в академии есть рисовальные классы, написал туда заявление. Когда я объяснил декану графического факультета Академии, что не могу предоставить справку с места работы, так как занимаюсь на худграфе.
Декан сказал, что он знаком с моими преподавателями и что большего здесь я ничего не узнаю. - Работай больше сам.
Сначала был расстроен. На стенах его кабинета висели рисунки гипсовых голов с иллюзорной проработкой до такой степени, что была изображена каждая царапина. После института я понял, что для искусства это совершенно не нужно. Действительно, при создании художественно-графического факультета были преподаватели, перешедшие с Академии художеств и Высшего художественно-промышленного училища им. В. Мухиной. Они же и занимались организацией факультета. Одним из них был профессор А. Павлов, принимавший меня на вступительных экзаменах. Увидев мой рисунок, сказал, что будет хорошая оценка и можно не приходить следующий раз для продолжения, а готовить другие предметы.
В 2022 году иду по длинному коридору Академии художеств на графический факультет посмотреть пленэрную выставку студенческих работ по Чечне. На стене висят портреты преподавателей. Было очень приятно увидеть знакомое лицо нашего профессора Павлова. Как-то старшекурснику я сказал, что его группе повезло. Ведёт группу профессор Павлов. Тот мне ответил: «Ты не смотри на звания, смотри на отношение преподавателя к студентам, на его умение учить». Действительно, я занимался почти у всех работающих тогда преподавателей и убедился в правоте слов студента. Тёплые слова могу сказать о преподавателе рисунка Сергеевой Людмиле Афанасьевне. Она как бы растворялась в нас. Учила нас не просто срисовывать с натуры, а видеть связь частей головы между собой, искать движение изображаемого. Чувствовалось, что она основывалась на достижениях художников Возрождения, особенно Рафаэля. Неравнодушна была к творчеству Сезана. С такой нежностью произносила: «Милый мой Сезан». А когда я показывал преподавателю Лаврентьеву свои эрмитажные копии, подошла к нам Людмила Афанасьевна, посмотрела на них и сказала: «Вот откуда берутся заумные художники».
Скульптуру у нас вёл скульптор Макушин. Вспоминается урок композиции, на котором преподаватель пластилином заделывал углубления в моей работе из трёх фигурной группы шахтёров. Из отдельно рядом сидящих шахтёров появлялась цельность, монолитность скульптуры. Этот урок я использую в живописи. Фигуры объединяю в тоне, цвете, ищу сочетание пятен и стремлюсь к удачному расположению их на холсте. Были и другие преподаватели. Один на мой вопрос ответил, что я много хочу, что сами преподаватели этого не знают. Заведующий кафедрой рисунка Канеев Михаил Александрович мне казался самым опытным художником на факультете. Я знаком был с некоторыми его картинами, рисунками, выполненными фломастером. У меня появилось желание показать ему свои эрмитажные копии в надежде, что он что-то добавит к моим знаниям.
Увидев мои копии, он посоветовал так работать, чтобы меня признали при жизни. - Больше пиши цветы. Особое внимание на моё изучение искусства оказал Лаврентьев Ярослав Яковлевич, работающий на вечернем отделении. А я посещал и вечернее отделение. Помню, как в пустой, проходной аудитории рисовал маску льва. Для передачи большего объёма маску делил на плоскости. Мимо проходил Лаврентьев, остановился возле меня, долго молчаливо смотрел на мой рисунок и предложил активней провести две линии на фоне маски, а на морде льва наклонную линию и спросил, что получилось. На рисунке фон ушёл вглубь, а морда льва вылезла вперёд. Я несколько дней сидел над рисунком и не мог этого добиться, а он тремя линиями передал объём. С тех пор давал мне задания тремя линиями передать основу картины. Можно изобразить наклон головы вправо или влево, но как показать наклон головы на нас. Для него было просто. На одном моём рисунке он провёл линию, и голова наклонилась на зрителя.
Посоветовал рисовать гипсы в отделе слепков Академии художеств. Мне дали разрешение, и под аккомпанемент надоедливо гудящих ламп дневного света я выбирал более понравившиеся скульптуры, рисовал и приносил на консультацию Лаврентьеву. По его предложению копировал в Эрмитаже эскизы Рубенса, картины Ван Дейка.
Копирование заключалось не в срисовывании, а в разборе произведения, в поисках ответов на вопросы «как?» и «почему?» Лаврентьев проводил вечерами наброски с обнажённой натуры. Постановки ставил в классических позах с выразительными движениями. Под его влиянием качественно менялись мои учебные работы у других преподавателей. В результате стал получать повышенную стипендию. Разбором произведений старых мастеров так увлёкся, что свои работы казались очень слабыми. Хотелось только копировать, а не развивать своё творчество. Тогда решил оставить копии и серьёзно заняться живописью. Пусть будут работы слабые, но мои, где есть беспредельные возможности в совершенствовании. До сих пор стремлюсь к дальнейшему своему развитию и чувствую себя на пути к этой цели.
Иногда всплывают в памяти слова Сальвадора Дали: «Художник, не бойся совершенства. Ты его никогда не достигнешь».
На первом курсе мы с Валентиной (будущей женой) ездили в Вологодскую область, город Кириллов и Ферапонтово. Внутри церкви Ферапонтова монастыря стояли леса. Реставрировались фрески. Мы лазили по ним и близко рассматривали фрески Дионисия. Он с сыновьями, возможно, также лазил, и по таким же лесам, расписывая стены храма. Возвращались из Ферапонтова в Кириллов пешком (двадцать километров). Дорогу недавно отсыпали, и на ней очень много было разноцветных камушков. Каждый цвет имел несколько оттенков. Цвета совпадали с цветами фресок. Дионисий такие камушки брал на берегу озера, перетирал их и делал фреску. Сохранилась ступка. По фактуре камешки были похожи на кирпич. Ими можно было рисовать. Мы насобирали этих камушков и при помощи их сделали на факультете отчёт о поездке.
На каникулах приезжал к маме, на Возы. Не забываются зимние поездки. Зима в Курской области совсем не такая, как в Ленинградской. Больше яркого солнца. Снег на морозе искрится и скрипит. Частные дома утопали в снегу. От них ровными столбами поднимался светлый дым. Люди тоже отличались одеждой, поведением. Вокруг было тихо и красиво. Из Курска к Возам с особым волнением добирался на пригородном поезде. Раньше его называли рабочим. Зная, что я приеду, но не зная, в какой день, мама ежедневно выходила на улицу, к калитке и наблюдала за вышедшими с поезда людьми.
Встретив, она мне говорила, что сейчас зарежет петушка и сварит супчик. Я просил из-за меня никого не надо резать. - Есть не буду. Она всё тихо сделает и подаёт мне горячий, душистый супчик. Он настолько завораживающее пах, что меня тянуло к нему. Я ел. С грустью вспоминаю предновогодний день. Решил принести ёлочную ветку, для запаха хвои в избе. Высокие старые ёлки росли в посадках вдоль железной дороги. От посадки начиналось поле и в дымке исчезало. Было очень пасмурно. Стоял маленький морозец. Свинцового цвета небо сливалось со снегом. От доносившегося со стороны поля тихого звука увидел одиноко, медленно движущуюся по дороге в поле метров триста от меня бортовую машину. Машина двигалась со стороны Понырей, приближаясь к моей станции. На ней стояли люди с открытыми головами. Словно удар ощутил в тот момент. Афганистан. Потом мимо нашего двора прошла местная администрация к дому погибшего. А когда я уезжал, на вокзале увидел его родителей. На круглом лице заплаканные глаза молодой мамы отпечатались в моей памяти надолго. Мне показалась, она чем-то похожей на «Кающуюся Магдалину» Тициана.
Моя мама однажды спросила своего отца: «Папо, чего Вы такой грустный?» (раньше в Украине называли своих родителей на Вы).
Дед ответил: «Чему радоваться? Вы молодые, у вас есть цель в жизни. А у нас с бабкой что? Было бы только здоровье».
В своё девяностолетие дед решил съездить к родственникам в Мелитополь. Я его сопровождал. Бабушка Клава предложила мне поехать на Азовское море в Кирилловку. Посадила в такси, и где-то через час с небольшим оказался на берегу моря. Плавал, прыгал на волнах, а на берегу, под привязанной к палочкам простынёй, делал наброски с отдыхающих. Первую ночь провёл в скирду, что был в двух километрах от пляжа. Остальные ночи спал прямо на берегу так, чтобы волной не смыло. Когда подошло время уезжать, оказалось, что на автобус надо брать билеты за неделю. Посоветовали пойти в аэропорт.
Из Кирилловки в Мелитополь летал самолёт. До вечера несколько человек ожидали самолёт, но он не прилетел. Причиной оказался День авиации. Что делать? Если я завтра не приеду, родственники будут переживать и думать, что что-то случилось. А тут уже солнце касается горизонта. Расстояние семьдесят километров. Воевавшие знакомые говорили, что во время войны в сутки они проходили такое расстояние. Ничего не оставалось, как использовать возможность проверить себя, пойти пешком. В полной темноте южной ночи отправился по единственной дороге. На пути встречались деревни. В одной люди шли в кино, в другой - возвращались из кино. Хотелось пить. Изредка доставал из рюкзака и откусывал большое яблоко и снова клал его в рюкзак. Оставил позади не один десяток километров, вдруг вижу у столба с фонарём бензовоз с открытым капотом.
Три человека возятся с двигателем. Подхожу, прошу пить. Воды у них не оказалось. В бензовозе они возили солярку, потом техническую воду. Один из них взял ведро и полез наверх проверить, может что-то осталось. Загремело об днище ведро, послышался плеск воды. В ведре воды было где-то примерно четвёртая его часть. Человек вначале отпил сам, чтобы я не боялся отравления. Эта вода для меня казалась лучшим напитком, какой я когда-либо пил. На их вопрос я ответил, что иду с моря. - Мы туда на машине не ездим. Далеко. Начинало светать. Впереди показалась автомобильная трасса Симферополь - Москва с быстро движущимися огоньками. Меня тянуло ко сну. Решил тут же на обочине прилечь. Стал снимать ботинки, не снимаются. В пути резиновая подошва стерлась, а железные гвозди впились в пятку. Рюкзак положил под голову и отключился. Не знаю, сколько бы спал, если бы не мотоцикл, с рёвом пронёсшийся мимо моего уха. Было уже светло. Попробовал надеть обувь. Нога опухла и не лезла в ботинок. Я связал шнурки и повесил ботинки на плечо сверху этюдника и босой отправился дальше. На перекрёстке находилась заправочная станция. В открытый кузов грузовой машины садились женщины с ближнего селения. Залез и я. Машина въехала в город и у бабушкиного дома высадила меня. Бабушка Клава накормила украинским вкусным борщом и уложила спать. А я ведь рассчитывал день плескаться в море, ночь идти в Мелитополь и следующий день погулять по городу. Дед торопился домой. С бабушкой он не разлучался никогда, а тут уехал на целую долгую неделю, повторяя: «Как там бабка будет одна?»
Снова институт. В программу входила летняя практика воспитателями в пионерских лагерях. В профсоюзе Краснодара нам предложили Анапу. Вдоль побережья Чёрного моря тянулся длинный Пионерский проспект, по обе стороны которого шли вереницы пионерских лагерей. Знакомство с работой в пионерском лагере началось в «Нефтянике», расположенном непосредственно рядом с пляжем. В моём отряде дети 13-14 лет. Жили в огромном шатре. Рядом пляж, море. День начинался с зарядки у моря под баян. Потом дети с визгом и брызгами бежали в море. Незабываемое чувство испытывали мы в тот момент. В тихий час некоторые ребята не хотели спать, в кровать под одеяло чтото подкладывали, чтобы казался лежащий человек, и убегали на пляж. «Ненадёжных» ребят я знал и всегда проверял. На месте нет. Иду на пляж. Увидев меня, заскакивали в раздевалку. Они, как страусы, головы спрятали, а ноги видны, да и много ног в одной раздевалке.
Вспоминается случай в столовой. Свой отряд привёл в столовую, сели за столики. За чем-то пошёл на кухню. Посмотрел вверх на чердак, там дымоход с большим отверстием, а в нём сплошное пламя. Мимо кухни идёт начальник лагеря. Ему спокойно говорю, точнее спрашиваю: «А что там, пламя?» и показываю.
«Пожар!!!» - во всю мочь закричал начальник. «Выводите детей!» Детей вывели, и мы с физруком погасили огонь. Физрук на чердак подавал вёдра с водой, а я лил её на огонь. Со своим отрядом выезжал на специально подготовленный полигон, для отработки действий детей по гражданской обороне. Были там и окопы, и взрывы, и носилки. Нам объяснили наши действия. Военная обстановка. Двое несут раненого на носилках. В стороне раздаётся взрыв. Ребята, несущие раненого, откидывают его в сторону, а сами прыгают в окоп. Был тревожный случай в походе. На самом же деле мой отряд вывезли на автобусе в горы. На поляне рядом с дорогой поставили палатки. Разделили пополам отряд. Половина пошла по склону горы, в кустах собирать для костра ветки, другая готовила ужин.
Одна девочка, собирая ветки, посмотрела вниз, на море, потеряла сознание и покатилась, ударилась об дерево. Ребята, которые были с ней, принесли её к палатке. Стал вопрос, что делать? Проходящих машин не было. А уже стемнело. Южная ночь очень тёмная. Выход был один: срочно искать машину, а тут даже огней нигде не видно. Тогда я вышел на дорогу и в полной темноте побежал в сторону Анапы. Дороги не видно. Впереди чёрная стена. На повороте, когда сбиваешься с дороги, ощущается обочина. Не помню, сколько я бежал. Из-за горы показалось селение с огнями. Подбегая, спросил у гуляющих по дороге людей, где можно взять машину. Указали на автобазу. Побежал на проходную автобазы. «Ничего не получится. Водители расслабились. Трезвого водителя не найти. Сегодня же суббота». Объяснил дежурному ещё раз. Стали звонить. Нашли водителя и автобус. В Анапе врачи определили у девочки сотрясение мозга.
Работа в лагере нам нравилась. В дальнейшем после окончания института мы с Валентиной устраивались воспитателями, я ещё плавруком, в детские лагеря. Работая в другом лагере, в станице Благовещенской, на море ездили на автобусе на расстояние километра. Не забыть те волнующие минуты, когда, сев в автобус, дети своими звонкими голосами с таким азартом пели песни, что казалось, сам автобус, подпрыгивая на неровной дороге, пританцовывал.
Впервые я услышал песни: «три белых коня…» и «с чарами не справиться, весь ты будешь мой…» Особое чувство испытываешь, когда едешь с поющими детьми. Их звонкие голоса звучали слаженно и во всю силу. Необъяснимое приподнятое ощущение испытывал каждый из нас. Мы как бы растворялись в этих песнях и из открытых окон улетали далеко. Однажды автобус застрял в песке. Близко на пляже никого не было. Все вылезли из автобуса и стали его толкать. Внезапно раздался громкий смех. Посмотрели по сторонам, никого. Только над нами пролетела чайка. Оказалось, что она над нами смеялась. Существует такая порода смеющихся чаек. Их я ещё слышал, когда писал пейзаж. Стоял на таких открытых заросших мелкими кустарниками буграх, где люди не ходят, да и в такую жару, что все предпочитают находиться под навесом. Слышу, смеются люди и так близко. Несколько раз поворачивался. Не верил. Вокруг летали одни чайки. На втором курсе института у нас была практика в Литве, называлась производственной. Знакомились с искусством, посещали учебные заведения, мастерскую архитекторов в Вильнюсе и Каунасе. На Троицу просыпались рано и шли в костёл посмотреть процедуру про- ведения католического праздника.
Просто бродили по городу, наблюдая за городским оформлением. Побывали в Тракайском замке, Пирчуписе, десятом форте, бывшем концлагере. Сейчас там музей. В Каунасе всех нас покорил музей витража, находившийся в православной церкви. В полумраке на просвет причудливо сверкали толстые цветные куски стекла. Мастера, делавшие такое чудо, рассказали, как от незначительной доли градуса зависел цветовой ряд. Зрители любуются в основном красотой стекла, а не композицией. И пожаловались нам, что «имя» ставят художников, сделавших только эскиз. Мастеров стекла никто не знает. Слышал, что теперь ставят два имени: художника и мастера. B Каунасе ещё одна достопримечательность - музей чертей. Стали искать. В том месте, куда нас послали, у города два уровня. Внизу у артиллерийского музея послали наверх по длинной лестнице. Сверху снова вниз, и так несколько раз. Ребята молодые. Сначала поднимались, опускались быстро. Затем, уставшие, скорость сбавили. Некоторые встречные жестами показывали, что русского языка не понимают. Чувствовалось отношение к носителям русского языка не очень.
Оказался музей вверху, в маленькой квартире. Я представлял его значительно больше и интересней. В Вильнюсе жили в общежитии Академии художеств. Как-то со своим преподавателем сидим на лавочке у общежития и в полголоса разговариваем. В несколько метров от нас в общежитие идут местные парни, видимо, студенты старших курсов. Услышав русскую речь, один подходит к нам, приставил палец к губам и говорит:
«Ша, это вам Прибалтика».
А архитекторы закончили нашу встречу словами, что культура идёт с Запада. Сначала она их пройдёт, только потом доберётся до России. Отношение к нам было разное. Стоим в длинной очереди у автомата с водой. Замыкаем очередь. Услышав нашу русскую речь, впереди стоящая молодая женщина подошла к нам и пригласила встать впереди неё. Столовая. Мы брали суп, котлеты, а местные просят цеппилины. Когда мы взяли их и попробовали, понравились. Дальше их брали всегда. Заказывая суп, нам давали ещё картошку. Оказывается, в Литве в суп не кидают картошку, а дают отдельно. После третьего курса предстояла пленэрная практика на Северной части Урала, в Нижнем Тагиле. На окраине города выделялась небольшая гора, у подножия её стоял мрачный, черный демидовский завод. но он ещё работал. С горы видна панорама города вместе с этим заводом. Мы писали, делали зарисовки. А в самом центре города находился огромный металлургический комбинат, по периметру обнесённый кирпичным забором. Сразу, как только пройдёшь проходную завода, тебя обдаёт жаром и шум такой силы, что бесполезно с кем-то говорить. Надо кричать в ухо. На фоне раскалённого металла двигались люди. Их мы рисовали, сделали несколько акварельных этюдов, а в обеденное время вместе с ними обедали в заводской столовой.
После пяти дней работы на заводе по узкоколейке и пешком добрались до большого демидовского посёлка Черноисточинск. Расположен он на берегу озера Белое. По приданию, там Демидов отмывал золото. Сохранились старые дома, своеобразные дворы, ворота. И всё украшено резьбой. Ряд домов от фундамента до крыши в резьбе, такие же и ворота. Трубы на крышах с замысловатыми металлическими завершениями.
Оцифровка журнала "Невский Альманах" раздел "Историческая память" 53 страница "Освоение мечты" https://www.nev-almanah.spb.ru/2004/6_2022/magazine/#page/54