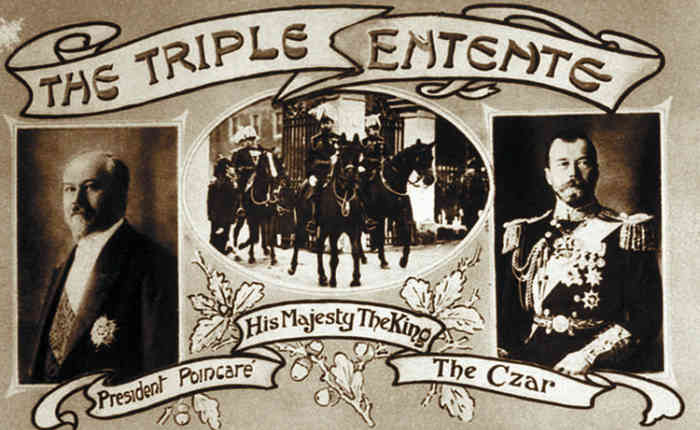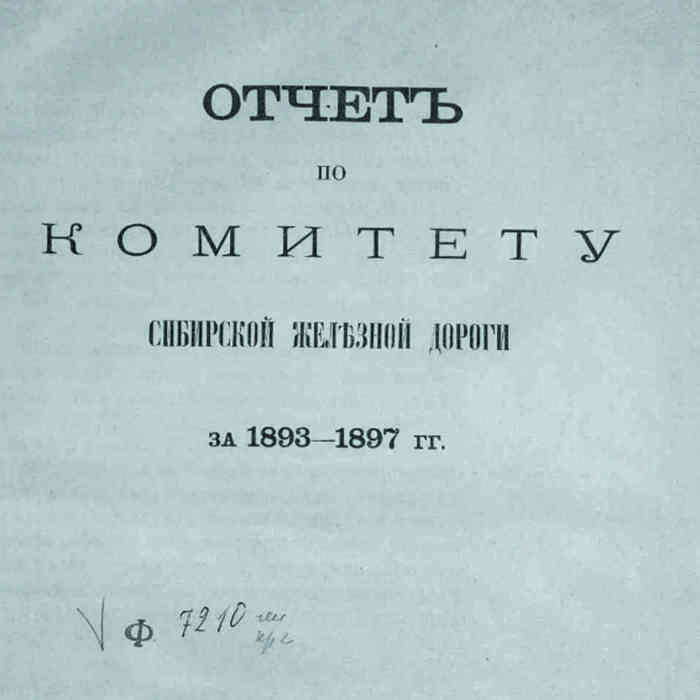"Высший шик в отсутствии самого шика". СЛУЖИТЕЛЬ ЛИГОВЕТ
Каждый полк Русской армии имел своё, зачастую отличное от других, лицо, свои обычаи и традиции. Особенно это было заметно в полках императорской гвардии. Автору, признаться, больше всего импонирует традиция полка номер два гвардии, Семёновского, девизом которого было: «Высший шик в отсутствие самого шика». Настоящая аристократия, в отличие от выскочек-нуворишей (увы, бич современной России), не нуждается в показной демонстрации своего превосходства.
Общая атмосфера полка – в службе, в повседневной жизни, в общении между собой офицеров, невзирая на звания и должности - представляла собой барское достоинство, соединённое с большой простотой. Семёновский офицер не гнул спину ни перед кем. Даже в царском дворце при разговоре с самим государем и особами императорской фамилии семёновский офицер, оставаясь безукоризненно воспитанным, вежливым, не проявлял при этом ни малейшего раболепства.
С другой стороны, у семёновцев не было и тени заносчивости перед младшими. Выразить презрение к солдату, к нижнему чину для настоящего семёновского офицера было невозможно. Точно также семёновские офицеры относились к своим денщикам и к прислуживающим в офицерском собрании лакеям. Настоящий офицер, по понятиям неписанного семёновского кодекса, не мог накричать или устроить разнос служащему собрания; равным образом, были немыслимы оскорбительные обращения-выкрики, бытовавшие в те годы в трактирах вроде «лакусь» или «лакедрон».
В 80-е гг. ХIХ века в обычное время в офицерском собрании Семёновского полка кроме поваров служили четыре человека: буфетчик и три лакея. Буфетчик обычно стоял за конторкой, отдавал распоряжения и заказы лакеям, в горячие минуты сам подавал господам офицерам, а главное - записывал всякий бутерброд, всякую рюмку, папиросу, поданную офицеру. По этим записям в конце месяца производились вычеты из офицерского жалованья. То есть должность буфетчика требовала безукоризненной честности, и, судя по отсутствию недоразумений и скандалов с этими записями, буфетчики этой честностью обладали.
Лакеи в собрании были как вольнонаёмными, так и из проходящих службу солдат (условием было то, что солдат не мог быть из молодых – требовалось прежде отслужить и стать солдатом в полном смысле этого слова).
Рядовой Лиговет, будучи рядовым 9-й роты полка, попав служителем в собрание, по увольнении в запас остался на всю жизнь в полку. Высокого роста, красивый, статный. Был совершенно честен, молчалив и служил бессменно 26 лет. Последние 10 лет Лиговет пил, но офицеры его не увольняли, превыше ценя его честность. Он так и умер, состоя на службе в собрании, в Семеновском военном госпитале от тяжелой болезни почек.
Произошло это осенью 1908 года.
В газете «Новое время» было размещено траурное объявление: «Общество офицеров лейб-гвардейского Семёновского полка объявляет, что такого-то числа в Семёновском военном госпитале от продолжительной и тяжёлой болезни скончался (имярек) Лиговет, честно и верно прослуживший в качестве слуги офицерского собрания лейб-гвардейского Семёновского полка в течение 26 лет». Вынос тела в полковую церковь тогда-то. Похороны тогда-то.
В назначенный день в полковой церкви собрались почти все действующие офицеры полка и, что самое интересное, множество давно вышедших из полка, прочитавших объявление и поспешивших приехать в полковой храм воздать последний долг усопшему.
По окончании отпевания большой белый глазетовый гроб, заказанный на средства офицеров, вынесли на руках вместе офицеры и собранская прислуга.
Процессия двинулась к Преображенской часовне, что на Николаевском вокзале, и из всех рот высыпали солдатики посмотреть, как господа офицеры хоронят простого служителя. И замполита с Ленинской комнатой не надо - наглядная агитация! Наверное, не зря именно Семёновский полк в декабре 1905 года всего за 4 дня подавил вооружённое восстание в Москве, поставив фактически точку на первой революции и подарив России тем самым еще 12 лет спокойной жизни.
В Советское время слово «слуга» приобрело негативный оттенок, а зря. Ведь оно от слова «служить», а служить на Руси всегда было почетно: служит и офицер, и солдат, и священник в полковой церкви, и повар в солдатской столовой. Служит и лакей в собрании – полк большой и сложный организм, и в нём нет должностей ненужных и, тем более, позорных.