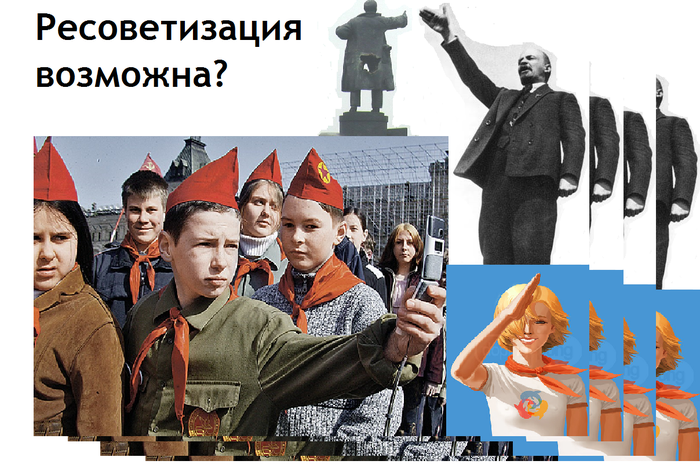Русские судьбы: трудно избежать одиночества девушкам из высшего общества
П. А. Столыпин среди членов своей семьи и друзей в Елагином
Ольга Борисовна Столыпина (в девичестве Нейдгардт, по отцу из потомков обрусевшего австрийского рода, по маме – праправнучка самого А. В. Суворова) была старше своего мужа на три года. Первым женихом девушки был Михаил Столыпин, молодой гвардейский офицер, старший брат Петра. В 23 года, незадолго до свадьбы, он был убит на дуэли князем Иваном Шаховским. Причины дуэли остались неизвестны. Ходили в обществе слухи: то ли заступился за какую-то даму, то ли за сослуживца (в последнем случае непонятно, почему за себя не ответил сам сослуживец). С Шаховским потом стрелялся младший - Пётр и был ранен князем в руку. Кажется, Столыпиным было суждено умирать от пуль, но время Петра ещё не пришло. В итоге, будучи всего 22-ух лет, Пётр Аркадьевич женился на невесте своего раненого и умирающего брата, который сам благословил этот союз. Как говорили современники на романтичном языке той эпохи, «на своём смертном одре вложил руку своего брата в руку молодой девушки». Бракосочетание состоялось осенью 1884 года, спустя 2 года после злосчастной дуэли.
Требовалось выдержать траур.
Брак оказался на редкость счастливым. И спустя десятилетия, до самого последнего дня Пётр Аркадьевич и Ольга Борисовна нежно любили друг друга.
Люди, мистически настроенные, наверняка усмотрели бы в таком рождении семьи некие предзнаменования для судеб рождённых в этом браке детей. Возможно, не без основания.
Всего у Столыпиных было пять дочерей и один, шестой по порядку, долгожданный мальчик. Дети росли в любви, но и в большой строгости, правильного воспитания ради!
Когда маме кто-нибудь дарил конфеты, они хранились у папа̇ в письменном столе, и дети получали после обеда по одной конфете.
- Ну, дети, бегите в кабинет за конфетами, - говорил Аркадий Петрович.
Совсем маленькая Ольга, Олёчек по-семейному, услышав как-то это долгожданное разрешение, громко, с чувством воскликнула:
- Папа̇, как я вас люблю!
- Только за конфеты и любишь? – улыбнулся Аркадий Петрович.
- Нет, тоже и за подарки, - ответил ребёнок, глядя своими честными детскими глазами прямо в лицо отца.
Учились до 12-лет дома; учителями были сама мама̇ и гувернантки, позже - приглашаемые учителя; экзамены сдавали при гимназии. Часто в долгах, на обучение детей Столыпины денег не экономили.
О старшей, Марии, мы уже рассказали. Другие сестры как рождались парами, с разницей в год с хвостиком, так парами и росли.
Наталья была младше сестры на 6 лет. (Во всезнающем интернете показательный разнобой по дате рождения Наталии Петровны. В большинстве, видимо, повторяя друг за другом некий неверный первоисточник, указывают годом рождения второй дочери Столыпиных 1889, и что на момент теракта на Аптекарском ей было 17 лет; фигурирует также дата 1894, что тоже неверно. И, кажется, реже всего встречается правильный год рождения Натальи - 1891). На её жизнь навсегда наложил роковой отпечаток тот взрыв на Аптекарском острове: ей было 15. Врачи настаивали на ампутации обеих ног, утверждая, что иначе девочку не спасти, причём настаивали, что сделать это надо немедленно до вечера.
Приехавший лейб-хирург Павлов согласился с мнением коллег. Столыпин на свой страх и риск умолил докторов подождать с ампутацией до следующего дня. На следующий день врачи сообщили, что они попробуют сохранить ноги.
Страдала девочка ужасно: первые дни была без сознания, лёжа с поднятыми к потолку ногами, бредила, повторяя бессвязные фразы о Колноберже (имение Столыпиных в Литве, где родилась и выросла с сестрами), о цветах, о том, что у неё нет ног, стонала и плакала. Даже с зубами были проблемы: после взрыва и падения они расшатались, и приезжавшему доктору приходилось лечить их в той же кровати. Настоящим адом были перевязки; у неё и через год извлекали кусочки извести и обоев, оставшиеся между раздробленными костями ног. «Кричала она во время этих перевязок так жалобно и тоскливо, что доктора и сёстры милосердия отворачивались от неё со слезами на глазах.
Она до крови кусала себе кулаки, и тогда тётя Анна Сазонова, помогавшая в уходе за ней, стала держать её и давала ей свою руку, которую она всю искусывала». Так вспоминала этот ад, длившийся более года, старшая сестра Мария.
Через 13 месяцев врачи решили, что неправильно сросшиеся ноги действовать не будут, и предложили искусственно сломать кости и срастить их заново. Пролежавшую целый год девочку подвергли этой тяжёлой операции, понемногу ноги стали действовать, девочка стала ходить на костылях.
В 1915 году с сестрой Ольгой Наталья сбежала на фронт. Они даже успели в качестве сестёр милосердия поучаствовать в боевых действиях на территории Украины, потом их нашли и вернули домой. В 1916 она вышла замуж за князя Юрия Николаевича Волконского. Брак закончился грустно: в 1921 году Юрий Волконский после нескольких неудачных финансовых сделок разорился. Видимо, не в силах пережить, что не может содержать семью, однажды просто ушёл из дома и не вернулся. Наталья перебралась во Францию. Там, в Ницце, и скончалась в 1949 году от рака.
Средняя, Елена, в 1915 году вышла замуж за князя Владимира Алексеевича Щербатова. Судьба и Гражданская война отвела им всего пять лет, за это время родились две их дочери, внучки Столыпина: Ольга (1915-1948) и Мария (1916-2005).
В имении Щербатовых в Немирове (сейчас это Винницкая область Украины) с конца 1918 года нашли приют Ольга Борисовна с младшими детьми. Семья Щербатовых, особенно свекровь Елены княгиня Мария Щербатова за свою благотворительную деятельность пользовалась большой любовью местных жителей (на деньги Марии Григорьевны в Немирове замостили улицы и осветили их фонарями, были построены бесплатная больница для бедных, электростанция, крытый рынок, содержались гимназия и монастырская школа для девушек, способные дети местных жителей учились в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Одессе; она финансировала Киевский политехнический университет; её стараниями было спасено Немировское городище – крупнейший археологический памятник Скифской культуры, куда Щербатова пригласила археологов; свой дворец в годы войны Мария Григорьевна отдала под госпиталь, в котором работала медсестрой).
Наверное, благодаря этой известности и любви населения, при вступлении Красной Армии на запад Украины председатель Совнаркома Украины Раковский дал указание местному ревкому о неприкосновенности семьи Щербатовых, их дворца и парка.
Но в январе 1920 года в имение вошёл отряд красноармейцев. После 15-го числа был убит сын княгини и муж Елены Владимир Щербатов; обстоятельства смерти покрыты туманом: кажется, он был убит проводником при попытке тайно выехать из поместья; причиной убийства послужила банальная жажда наживы. А в ночь на 20 января 1920 года некий красноармеец Андрей Лесовый, бездельник и пьяница, люто ненавидевший Щербатовых, вместе с тремя товарищами, пьяными до бесчувствия, расстреляли в парке у дворца трёх женщин: княгиню Марию Щербатову, её дочь Александру и их подругу Марию Гудим-Левкович. Наивная Мария Щербатова до последней минуты так и не верила, что кто-то в Немирове причинит ей зло, ведь она всю свою жизнь делала людям только добро! Потом убийцы отправились на поиски Столыпиных.
Нашли Ольгу (по семейной легенде она нарочно подставилась убийцам, отвлекая их на себя и давая возможность спастись матери и сестрам с братом), ранили, прострелив лёгкое. Ольга после этого прожила 5 дней, умерла в каком-то сарае в страшных мучениях на руках сестры. Остальных Столыпиных спасли местные ребятишки, с которыми успел подружиться Аркадий: скрываясь, Ольга Борисовна с детьми несколько часов пролежали в канаве. Ещё пять месяцев, до очередной смены власти, их укрывали местные жители, кормили; после прихода поляков Столыпины уехали на Запад.
Такова распространённая версия, в соответствии с которой убийства Щербатовых и Ольги Столыпиной – это случайный эксцесс со стороны нескольких пьяных хулиганов. Воспоминания Александры Столыпиной о той страшной ночи опровергают, на наш взгляд, эту версию: убийц было больше, и распоряжались всем не случайные пьяные красноармейцы, а их начальники. В таком случае, гарантии безопасности со стороны Раковского были просто ширмой, а негласно руководители расправы получили от своего начальства совсем другие указания.
В 1922 году Елена Петровна оказалась в Италии и в следующем году вышла замуж второй раз за князя Вадима Волконского. Супруги проживали во дворце Строгановых в Риме (palazzo Strogonoff), доставшимся им по наследству от Щербатовых. Елена занималась воспитанием своего младшего брата Аркадия, занималась успешно – одних языков Аркадий знал шесть. К сожалению, рискованные финансовые операции Волконского привели к разорению семьи. Елене Петровне пришлось продавать строгановские ценности, хранившиеся во дворце – наследие многих поколений нескольких русских родов. Несмотря на это Елена Петровна, подобно всем Столыпиным, которым не суждено было погибнуть от чужих рук, прожила очень долго, скончалась в 1985 году, 93-ёх лет от роду.
Младшая дочь Александра родилась в 1897 году. Именно на её руках умерла сестра Ольга. Александра вышла замуж в Берлине в 1921 году за Льва Гебхарда графа Кейзерлинга, из известного рода остзейских русских немцев. Проживали в Латвии, но в один прекрасный день латышское правительство конфисковало всё имущество Кейзерлингов. Как видим, делить своих жителей на правильных и неграждан наши прибалтийские братья выучились намного ранее 1991 года. Кейзерлинги перебрались в Швейцарию, потом во Францию. Александра Петровна умерла 30 сентября 1987 года, 89-ти лет и 11-ти месяцев, день в день практически. По воспоминаниям всех её знавших, это была умная, интеллигентная, утонченная и обаятельная женщина. Больше всего её характеризует тот факт, что, когда в Немиров пришли поляки, их начальник просил Александру указать местных жителей, которые сотрудничали с большевиками. Девушка никого не выдала. И это несмотря на то, что ей пришлось там пережить.
Аркадий Столыпин был самым младшим в семье – долгожданный, выстраданный ребёнок. От первенца (Марии) его отделяли 18 лет и ещё четыре сестры (сходство с семьёй последнего императора удивительное). Родился Аркадий 2 августа 1903 года, во время революции ему было всего 14 лет. Скончался в Париже в 1990 году.
В роду Столыпиных была традиция: старинный образ, который переходил первенцу каждого нового поколения. Вот как вспоминала об этом Мария Столыпина: «Как нас, девочек, не любили родители, их большим желанием, конечно, было иметь сына. Мечта эта осуществилась лишь на двадцатый год их совместной жизни. До моего брата родился сын моего дяди Александра Аркадьевича Столыпина. С грустью послали тогда мои родители образ, переходящий в роду Столыпиных первенцу нового поколения, моему двоюродному брату. Зато когда им Бог послал сына, были они счастливы и горды необычайно».
С рождением Аркадия был связан ещё такой юмористический эпизод. Старинный друг Столыпиных, горячо любимый всеми их поколениями приходской священник отец Антоний, прислал семье поздравления в связи с рождением сына и очень… обидел счастливую маму Ольгу Борисовну. Отец Антоний поздравлял Столыпиных с рождением Марии, как первенца, и с рождением Аркадия, сына, а с рождением всех остальных четырёх девочек поздравлять не находил нужным: отец Антоний искренне считал, что от женщин мало толку на свете.
Большая часть (практически вся) его жизни прошла во Франции, но он так и не принял французское гражданство и всегда оставался монархистом. Поступил в военную школу Сен-Сир (кажется, тотальная женская забота, которая всю жизнь окружала его в семье, в какой-то момент ему наскучила), но здоровье не позволило продолжить карьеру военного. В 1930 году женился на дочери бывшего французского посла в Петербурге.
В 1944 году при немцах успел посидеть в тюрьме. С 1949 года работал на Франс-Пресс: профессиональный журналист, редактор, автор ряда публицистических книг, в их числе есть и очерк о его знаменитом отце. Два сына и дочь – дети его и внуки Петра Аркадьевича Столыпина - были русскими и прекрасно говорили по-русски. Кстати, жену его звали Франсуаза-Грация Джордж-Луи - очень красиво и очень по-французски, а детей - Пётр, Дмитрий, Мария! Показательно, да… А вот правнуки уже по-русски не говорят. Но понимают.
У Дмитрия Столыпина детей трое, а внуков шестеро, но мальчик среди них только один, Николай Столыпин. Дмитрий Столыпин тоже журналист и писатель, несколько книг были написаны им в соавторстве со своим отцом.