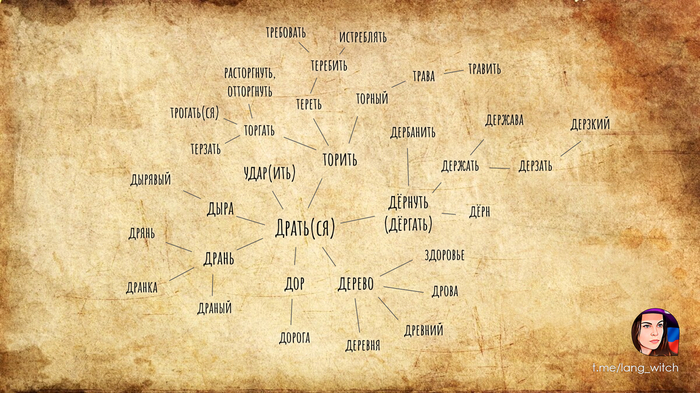Венчальное платье, часть 2, и Кто такая белая баба
Не помнил Афанасий, как пережил базарный день. Каждый миг ему мерещилось, что с Аксюткой что-нибудь да случится. То пьяница мимо пройдёт, пошатываясь, - вдруг у него нож за пазухой? То конный вдруг лихо проскачет совсем рядом, да так что ленты на Аксюткиной косе взовьются, - вдруг собьёт, затопчет? Только и думал несчастный отец, как ему беду отвести, не сводил глаз с дочери, орлом вокруг ходил, чуть не крыльями её закрыть старался.
К обеду всё купили, только белая материя осталась. Аксютка встала возле лавки и говорит:
- Отец, всё мы обошли, нет лучше ткани, чем тут.
- Не нравится мне, - буркнул Афанасий, озираясь по сторонам.
- Да что ж такое? - Аксютка вскинула брови, - смотри какая тонкая да гладкая. Буду как царевна в таком платье...
И вдруг воскликнула совсем по-другому, сама испугавшись своей догадки:
- Или слишком дорого, батюшка? Тогда пойдём скорей отсюда, другую найдём...
- Нет, Аксютка, не дорого. Но ткань купим в другой раз. Идём, - он схватил дочь за руку и повёл прочь с рынка, в сторону телеги, где на месте проданных товаров уже лежали тюки с обновками.
Обратный путь прошёл в тишине. Аксютка размышляла о том, что раз не выполнил отец наказ от призрака, неужто передумал её замуж выдавать? Никак позволит ещё немного пожить ей с сёстрами, в их светлой горнице, без печалей и забот? Но боялась сама заговорить да спросить. А отец перебирал одной рукой вожжи, другой бороду, жгла его сердце лютая печаль. Не знал он, как дочь спасти от злой погибели.
Дома Афанасий грозно приказал старшим дочерям распрячь коня, почистить, покормить-напоить, и затем только гостинцы смотреть. Аксютке строго-настрого велел в доме сидеть, отдыхать и ничего не трогать, а сам быстрым шагом покинул двор и скоро исчез за поворотом улочки.
На месте его первым из-за забора приветствовал звонкий лай, следом на крыльце показался хозяин.
- Здорово, Афанасий, - Богдан подошёл, открыл калитку и погладил пса по голове. Тот сразу притих и лизнул хозяйскую руку.
Афанасий зашёл во двор и выдохнул:
- Беда у нас, Богдан. Зайдём в дом.
В избе Афанасий всё рассказал, что утром было. Как только закончил и дух перевел, из-за печи выглянул незнакомый мужик.
- Это ещё кто такой?
- Да это Никита, он в город шёл, у нас в бане заночевал, да мы с утра разговорились, вот он и остался ещё на денёк, - ответил Богдан.
- Не серчай, - начал Никита, - что я подслушал, но я кое-что в этих делах смыслю. Когда-то и я встречал Белую бабу, и нагадала она смерть моей невесте. Красивая была она у меня... Эх, тьфу, да что там... Тогда я не знал, а теперь вот знаю, и тебе скажу. Купи белую материю, как она сказала, да приезжай туда, где её видел в первый раз. Как доедешь, бери нож, и начинай материю резать, как можно мельче, до лоскутов. И молись как в последний раз.
- Спасибо, Никита, - Афанасий поднялся, - завтра с утра значит опять в город поеду. И тебя, стало быть, подвезу.
На том и порешили, так и поступили. Купил Афанасий в городе белую ткань, ту самую, на которую Аксютка заглядывалась, а на обратном пути остановил коня там, где им с Аксюткой белая баба показалась, взял ткань, и начал её ножом кромсать со всей силы. Тут-то баба и выскочила на него из лесу, и давай кричать:
- Что ж ты делаешь, смертный? Разве не знаешь, зачем я велела тебе купить материю на белое платье?
- То-то что знаю, - ответил Афанасий. - Дочку я и в домотканом под венец отведу, ни к чему нам шелка-атласы твои, забирай их себе!
И начал про себя христову молитву читать.
Стояла-стояла баба, смотрела-смотрела на то, что от ткани осталось, руки заламывала. Наконец, бросилась к мужику, вырвала у него лоскуты и унеслась обратно в лес.
Доехал Афанасий домой, а там Аксютка похлебку варит, Анька вышивает, Агашка с котом играет. Благодать! Но на душе у отца всё-таки было неспокойно.
Привидение белой женщины - образ довольно известный в мировом фольклоре.
В кельтских легендах, например, такая женщина часто является людям в тихой проселочной местности, и, вероятно, связана с Банши, мрачной разновидностью фей, предвещающих смерть. Они тихо бродят среди деревьев, а время от времени издают пронзительные вопли. В некоторых поверьях они не кричат, а молча плачут. Возможно, это призраки женщин-плакальщиц, которые и после смерти продолжают заниматься тем, что делали при жизни. А возможно, это пережиток культа предков, и таким жутким образом хозяйка рода предупреждает своих потомков о возможной гибели.
У славян встречается следующее описание:
"Женщина с кажущейся молодой фигурой, в белом одеянии, будто свадебном. Внезапно возникает перед человеком, столбом вырываясь из земли, откидывает вуаль и показывает лицо мертвой старухи. Человеку такая встреча предвещает скорую смерть. "
Чтобы не зашла белая баба в дом и не принесла несчастье, под порогом закапывали голову кобылы, цепляли косу над воротами или над косяком дверей, прибивали к порогу подкову. Иногда под конёк крыши клали можжевеловые ветки.
Обычно Белая баба с людьми не разговаривала, только закрывала глаза и молча плакала, что может косвенно свидетельствовать о том, что она сама не рада людским смертям. А белый цвет тогда был траурным: снег зимой накрывает землю как саван, в таком же хоронят покойников.
Возможно, Белая баба у славян пересекается с образом Марены (Мары). Этот женский образ в аграрных обрядах тоже был связан со смертью и с умиранием природы, а её чучело часто наряжали в белое платье. Во время обрядов его уничтожали разными способами, и это символизировало возрождение природы.
А может быть, отголосок этого культа - снеговики?:)