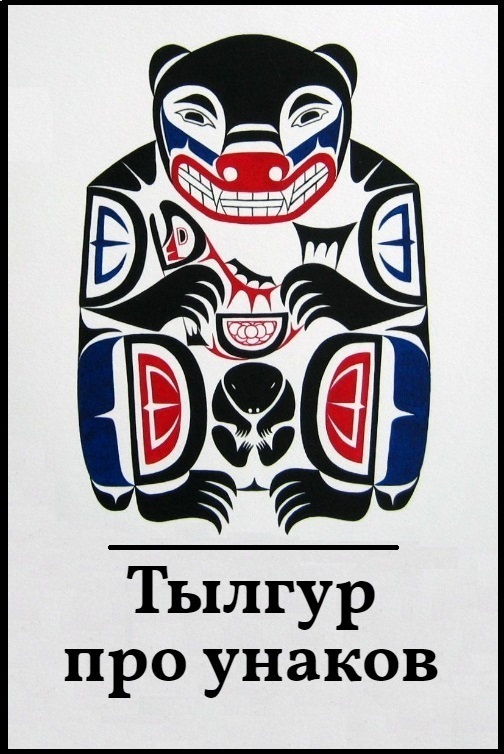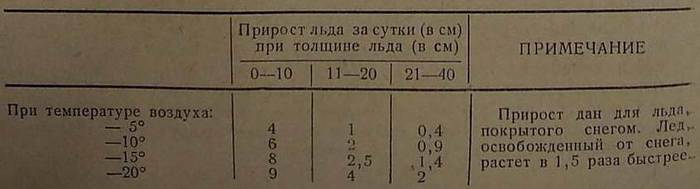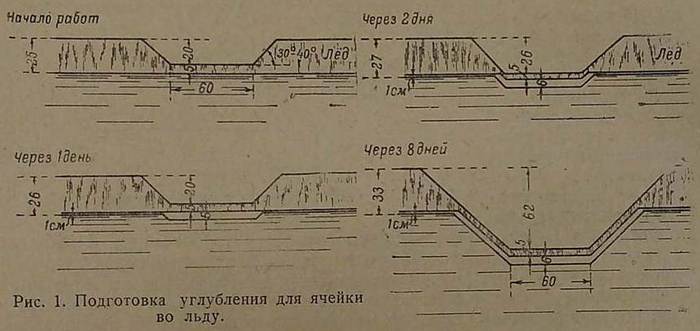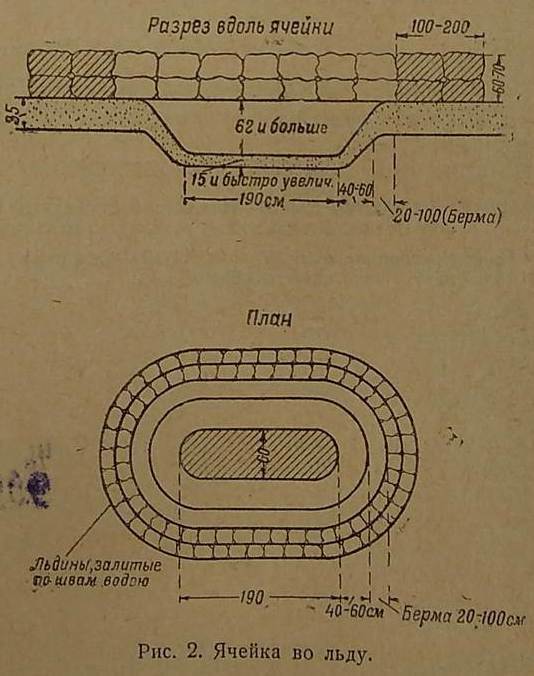Грифоны Скифии
Итак, грифон. Химера, существо, соединившее в себе зверя и птицу в различных сочетаниях.
Существо, объединяющее в себе черты обоих потусторонних миров – верхнего и нижнего. Медиатор, проводник между мирами. Согласно мифологическому подтексту многих сюжетов скифского искусства, сцена терзания копытных, грифонами, являющимися символами нижнего, хтонического мира, является отображением все того же вечного дуализма, борьбы жизни со смертью. "Мир, мир смертных, символизируемый копытным противостоит "иному" миру, миру смерти в его различных ипостасях."
Как ни странно, но у столь необычно выглядящего создания вполне может быть и материальная основа. В качестве прототипа, натолкнувшего на мысль о существовании подобного существа, могли выступить останки вымерших травоядных динозавров (к примеру, семейства Psittacosauridae), чьи скелеты весьма схожи с описаниями грифонов (четыре ноги и птицеобразная голова с мощным клювом).
Прототипом мог служить и черный гриф, Aegypius monachus, обитающий в предгорьях и горах Центральной Азии, Средней Азии, Кавказа, Крыма и Северной Африки. Он наделен хохолком из перьев и воротником из длинных заостренных перьев. Наряду с длинным клювом, круто загнутым на самом конце, эти анатомические детали черного грифа могли стать источником формирования соответственно гребня и мощной складки на шее как грифона раннегреческого типа, так и особого образа грифа-птицы (в полнофигурном и редуцированном воплощении) Дополнительным стимулом, подстегнувшим фантазию, также могли послужить следовые цепочки крупных хищников и хищных же птиц у добычи.
Первые изображения четвероногого существа с птичьими головой, крыльями и передними ногами в сочетании с ухом, туловищем, задними ногами, гривой и хвостом льва известно еще на печатях из Суз, синхронных урукской эпохе IV тыс. до н.э.
Печать из Суз, IV тыс. до н.э. Илл. Канторович А.Р. Истоки и вариации образов грифона и гифоноподобных существ в раннескифском зверином стиле VII-VI вв. до н.э.
Постепенно этот художественный образ становится широко распространенным в искусстве многих древних народов Передней Азии. На протяжении длительного времени в разных географических регионах образ грифона, с одной стороны, претерпевает ряд изменений, а с другой — приобретает более определенные черты. Классический тип грифона становится известен в памятниках Древнего Ирана и Греции приблизительно к началу I тысячелетия до н. э.
Изображения грифонов широко распространено в искусстве народов Причерноморья, главным образом в 4-3 веке до н.э.. Естественно, образ проникает в Северное Причерноморье гораздо раньше. Первые достоверно датированные изображения грифона-птицезверя относятся к 7-6-му веку до н.э. .
В связи с разнородностью культур вышеуказанной территории, изображения грифонов можно разделить на три типа (в свою очередь подразделяющихся на подтипы): переднеазиатский, греческий и непосредственно, скифский тип.
Для точной идентификации принадлежности изображения к тому или иному стилю, были предложены следующие критерии, предложенные Канторовичем А.Л. :
1) специфические пропорции животного – преувеличенность определенных частей тела (в ущерб остальным): глаз, пасти, ноздрей, ушей, лопатки, бедра; кроме того, гипертофированность рогов и копыт – у копытных, зубов и когтей – у хищников, клюва и крыльев – у птиц, всех вышеперечисленных деталей (при их наличии) - у синкретических животных ;
2) акцентирование определенных анатомических деталей (таких, как глаз, рог, лопатка, плечо, бедро, копыто или лапа) посредством рельефа, линейного обрамления, намеренной геометризации и/или «зооморфного превращения» этой детали, т.е. трансформации в другой зооморфный мотив;
3) специфическая поза животного, соответствующая ограниченному набору поз, строго определенному для той или иной группы образов
Переднеазиатский (восточный)
Как понятно из названия, заимствован образ в Передней Азии. На всех изображениях фигуры определяемые исследователями как грифоны (львиное тело, орлиная голова, скорпионий хвост, крылья в виде рыб, человеческие руки), соседствуют с подобными химерами, состоящими из частей тел разнообразнейших созданий.
По концепции эти существа являются несомненным продуктом древневосточных космогонических представлений, которые в комбинации птичьих, животных и рыбьих форм вкладывали идею сочетания природных стихий: неба, земли и воды. Фантастичность образа — вполне в переднеазиатском вкусе, так же как и спиралевидные локоны, ниспадающие с голов орлиноголовых грифонов Литого кургана. Подобные локоны можно встретить у грифонах с хеттских печатей, на бронзовом грифоне из Топрах-Кале (Урарту).
Так же, в качестве определяющих признаков можно указать следующие пункты, типичные для искусства Ирана и Междуречья:
1) Подчеркивание мелких деталей тела всякого рода «запятыми», «точками», «подковками»;
2) Зачастую под глазом имеется значок в виде «запятой»;
3) Очерчивание восковицы полукруглой линией;
4) Большие крылья, плавно изогнутые и направленные своим концом вперед (ассирийская манера подразумевает крыло с прямым верхним краем, расположенным под 90°);
5) «перепончатый» гребень (в Урарту – ровный, словно подстриженный, в Ассирии – высокий, перьевой).
В качестве ярких примеров можно привести фантастические существа, изображенные на золотых ножнах мечей из Мельгуновского клада (Литой курган) и Келермеса. Оба погребения представляют собой наиболее ранние из известных нам скифских курганов Северного Причерноморья.
Грифон на ножнах меча из Литого кургана
Грифоны с ножен из Келермеса
Ионийско-греческие грифоны(восточно-греческие)
«Греческие» грифоны на раннем этапе развития несли следы переднеазиатского влияния, что заметно, к примеру, на грифонах с зеркала и ритона, найденных все в том же Келермесе.
«Ионийско-греческий» грифон на зеркале из Келермеса
Стиль изображения, который так же можно назвать «ионийско-греческим", характерен для греческого искусства Малой Азии:
1) На орлиной голове — длинные остроконечные уши,
2) Нос украшает высокая острая надставка,
3) Клюв раскрыт и из него высовывается извивающийся тонкий язык;
4) По шее спускаются два спиралевидных локона, характерные для ранней греческой архаики и восходящие ещё к хеттским прототипам, отсутствие гребня, характерного, для грифонов ассиро-урартского, хеттского и позднегреческого типа
5) Грифон находится изолировано.
6) Крылья из отдельных перьев подняты почти строго вверх (в позднюю эпоху крылья приобретут определенную серповидную закругленность). Такие крылья, позаимствованные из Передней Азии, в частности от грифонов Финикии, преобладали в искусстве западной Малой Азии и острова Родос .
Этот тип полностью сложился в VII в. до н.э. в греческих центрах на побережье Малой Азии и соседних с ней островах. Основой для его создания послужили, грифоны, выполненные в ассирийско-финикийской художественной традиции. Непосредственным прототипом могли явиться сирийские и ассирийские памятники искусства 13 в. до н.э., аналогичные найденным в Кархемише, Сакча Гёзю и крепости Салманасара III. Своеобразным переходным звеном к восточно-греческому типу служит фигура орлиноголового демона на резной костяной панели от изголовья ложа (около 730 г. до н.э.) из крепости Салманасара.
В качестве возможной переходной формы от восточно-греческих к греко-скифским образцам (как выполненным скифскими мастерами под влиянием греческих образцов, так и самими греками с адаптацией под вкусы заказчиков из Скифии), следует отметить орлиноголового грифона с острыми торчащими ушами, большим выпуклым продолговатым глазом, яростно разинутым клювом и извивающимся языком на бронзовом навершии в форме типичного для Кубани сквозного полого бубенца. Грифон, безусловно, греческий. Однако нет ни надставки на лбу, ни спиралевидных локонов, формы более обобщены. Особенно примечательна типичная для скифского искусства органическая связанность изображения с формой бубенца, округлые очертания которого повторяются контуром головы грифона.
Скифские грифоны
В скифском искусстве Северного Причерноморья, как ни странно, ясно выраженного грифона, как на вышеуказанных импортных изделиях, мы не найдём. То, что обычно принято называть «скифским грифоном», в большинстве случаев оказывается просто головой хищной птицы, обособленной головы хищный с ухом . Схема её в виде большого выпуклого круглого глаза и загнутого книзу сомкнутого клюва с резко обозначенной восковицей чрезвычайно распространена в скифском быту. Этот мотив постоянно встречается на предметах утвари и, особенно, на вооружении и золотых и бронзовых частях конского уздечного набора.
Говоря о скифских грифонах, нельзя не упомянуть автохтонную гипотезу происхождения данного образа, выдвинутую Погребовой Н.И.:
Орлы – самые крупные хищные птицы Евразии. Соответственно, они не могли не войти в мифологическую картину скифского мира. Орлы закрепились в космогонической системе как в качестве символа нижнего мира, символа смерти, так и символа быстроты, силы удара.
Частое изображение орлиной головы на деталях конской сбруи говорит о том, орел связывался с покровительством конных воинов, магически охраняя, сообщая силу удара и быстроту.
С другой стороны, существует ряд ранних находок, где реальный образ птицы наделяется фантастическими элементам. Мотив головки хищной птицы, повернутой в профиль, с большим круглым глазом, выступающим за пределы головы, и сильноизогнутым клювом впервые встречен на золотой диадеме и на серебряном блюде из Зивие (7-6 век до н.э) . Этот образ широко известен в скифском, тагарском, древнеалтайском искусстве и синхронных памятниках на территории Северного Причерноморья, Казахстана, Тувы, Монголии, Север-Западного Китая, то есть, практически во всех областях скифского мира.
Н. Л. Членова полагала, что истоки этого образа (большеглазой птицы) восходят к головкам львов из Луристана; последние, по ее мнению, были неправильно поняты скифами: так, возвышающееся над головой ухо льва воспринималось ими как круглый выступающий глаз, а верхняя челюсть льва — как птичий клюв. Однако, по мнению Барковой Л.Л . и Б.В. Техова , никакие львы в этимологии данного образа не прослеживаются, и данный образ принадлежит исключительно скифскому искусству. Мнение об ошибочности гипотезы Н.Л. Членовой разделял и М.И. Артамонов ., считавший, голова с выступающим глазом на месте лобного выступа, представляет собой промежуточное звено стилизации, ведущей к сокращенному образу птицы, состоящему лишь из клюва и большого круглого глаза, а то и принимающего вид двойной спирали.
В качестве примера приведем бронзовом навершии из Ульского аула (курган №2), имеется изображение птичьей головы в виде круглого кольцевидного глаза и огромного загнутого спиралью клюва, за глазом же прослеживается продолговатое остроконечное звериное ухо. Таким образом, создается фантастический образ птицы со звериным ухом.
Принимая во внимание вывод Гольмстен , о том, что на определённой стадии развития в изображениях звериного стиля сочетаются элементы тела разных зверей с целью усиления боевых и устрашающих качеств реального животного. Изображая хищную птицу на своём вооружении, скифский воин якобы магически приобретал её свойства. Отсюда стремление изобразить её возможно более внушительно, особенно подчеркнув её крепкий, острый клюв и зоркий глаз, а иногда и цепкий коготь; добавление уха волка или другого зверя, а иногда и тела животного (Ульские псалии), должно было ещё более усилить магическое действие изображения.
Таким образом, искусство скифов Причерноморья и могло получить образ, визуально очень схожий с орлиноголовым грифоном Греции. В первую очередь, данное слияние происходило в Боспоре, где даже по количеству среди находок, мы видим большее количество явно завезенных изображений. Боспор остается главной территорией распространения изображений грифона и в будущем, когда параллельно с развитием орлиноголового типа, на основе переднеазиатских изображений, создается облик боспорского львиноголового грифона, что происходит в 5-4 веке до н.э. (рассмотрение данного образа выходит за рамки данной работы).
В любом случае, следует заключить, что образ грифона, оказался недостаточно популярным в скифской среде в VII-VI вв. до н.э., замещаясь синкретическими образами, более соответствующими местной идеологии. Сам же образ раннегреческого грифона, вошедший в раннескифское искусство, хотя и не стал широко распространенным, но, во-первых, стимулировал беспрецедентную популярность образа ушастой птицы – “скифского грифона”, во-вторых, создал предпосылки для широкого распространения в скифо-сибирской художественной системе в V-IV вв. до н.э. разнообразных модификаций грифона: бараноптица (грифо-баран), тупорылый зверь, олене- и лосептица и т.д.
_______________________________________________________________________________
Канторович А.Р. Образы синкретических существ в восточноевропейском скифском зверином стиле//Электронный научный журнал Исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова «Исторические Исследования» № 3. 2015
Д.С. Раевский Модель мира скифской культуры. Проблемы мировоззрения ираноязычных народов евразийских степей I тысячелетия до н.э. // М.: 1985. С. 150
Баркова Л.Л. Образ орлиноголового грифона в искусстве древнего Алтая (по материалам Больших Алтайских курганов) Археологический сборник [Эрмитажа]. Вып. 28. Материалы и исследования по археологии СССР. Л., 1987
В.А. Кисель Келермеский грифон. // Эрмитажные чтения памяти Б.Б. Пиотровского. СПб: 1997. С. 40-42.
Канторович А.Р. Истоки и вариации образов грифона и грифоноподонбых существ в раннескифском зверином стиле VII-VI вв до н.э. Археологический альманах. – № 21. – 2010.
Вязьмитина М. И. Ранние памятники скифского звериного стиля. — СА, 1963, №2
Н.Л. Членова Происхождение и ранняя история племён тагарской культуры. // М.: 1967.
Техов Б. В. О некоторых предметах скифского звериного стиля из памятников южного склона Главного Кавказского хребта. — В кн.: Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии... М., 1976. С.-160
Артамонов М. И. Происхождение скифского искусства. — СА, 1968, № 4, С. 40-41
В. Гольмстен. Из области культа древней Сибири. Сб. в честь Н.Я. Марра. 1934, стр. 115-116.
Н.Н. Погребова Грифон в искусстве Северного Причерноморья в эпоху архаики. // КСИИМК. Вып. XXII. 1948. С. 65.
Б.Б. Пиотровский. Кармир-Блур, I, Ереван, 1950, С. 96-97
В.А. Ильинская Некоторые мотивы раннескифского звериного стиля. // СА. 1965. №1. С. 86-107.
Выкладывал когда-то у себя в жж (https://irkuem.livejournal.com/475613.html)