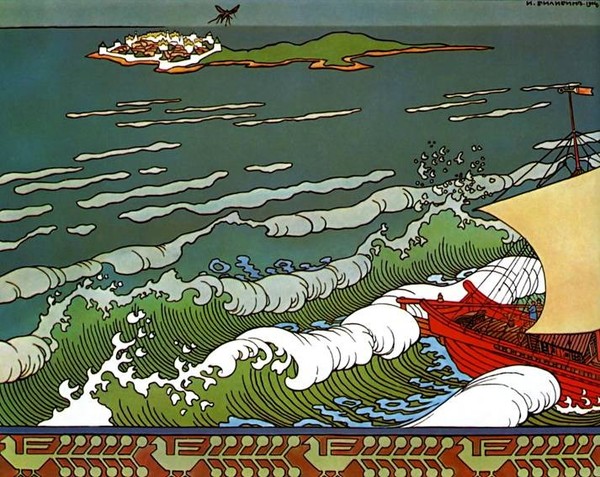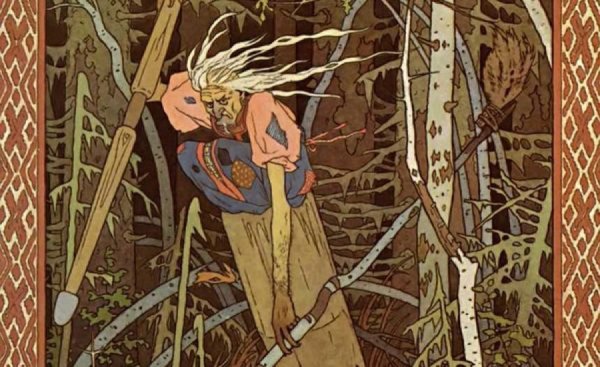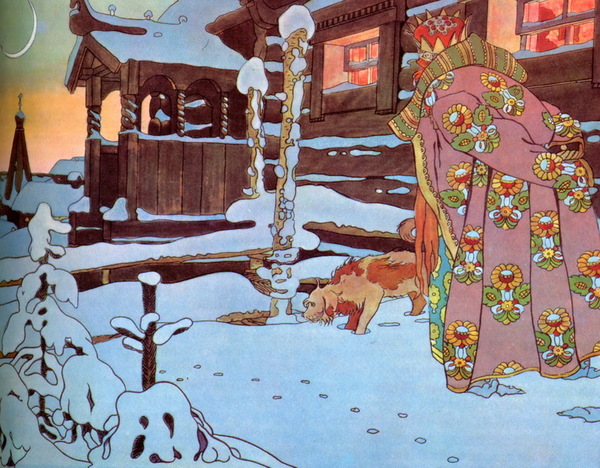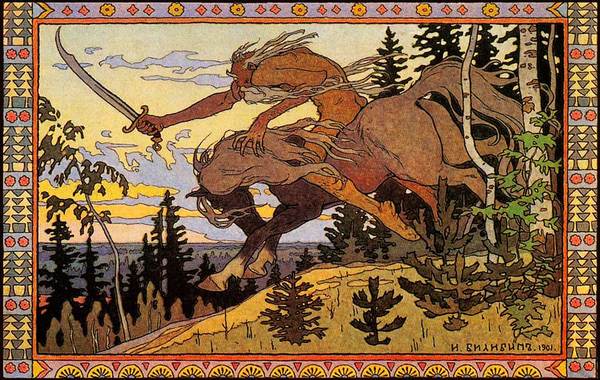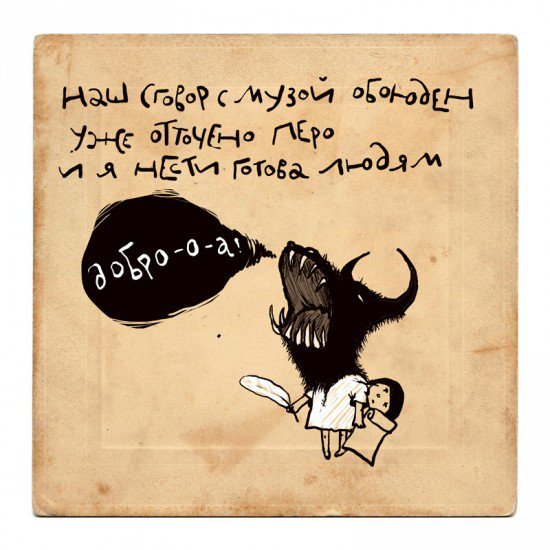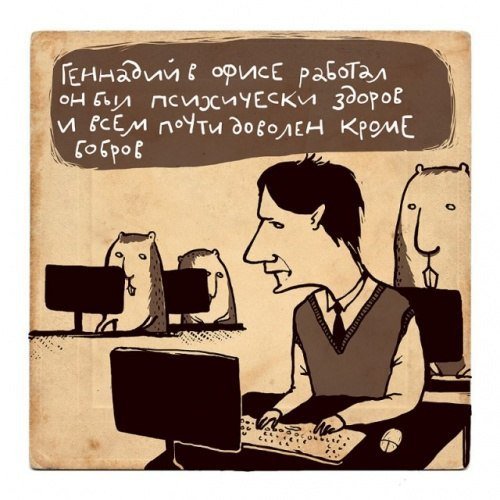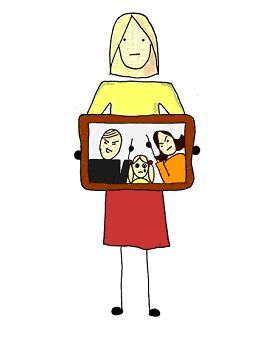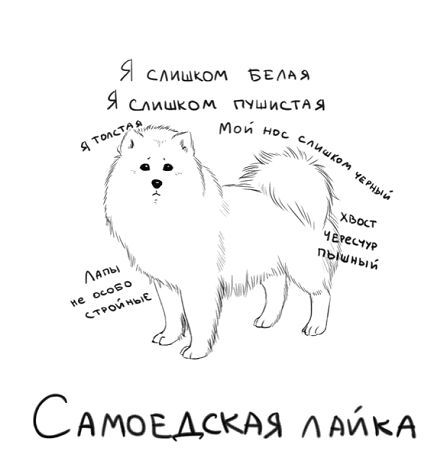Н. Мак-Вильямс. Истерическая личность. (1 часть)
Истерическая личность - это не значит истерические срывы.
Психоаналитики даже склонны относить истерических к более зрелым личностям. Но также есть истерические люди пограничного, психотического уровня и между двумя этими группами есть огромная дистанция.
Люди с истерической структурой личности характеризуются высоким уровнем тревоги, напряженности и реактивности – особенно в межличностном плане. Это сердечные, “энергетичные” и интуитивно “человечные люди” (“people people”), склонные попадать в ситуации, связанные с личными драмами и риском. Иногда они могут настолько пристраститься к волнениям, что переходят от одного кризиса к другому. Из-за высокого уровня тревоги и конфликтов, от которых они страдают, их эмоциональность может казаться окружающим поверхностной, искусственной и преувеличенной. Их чувства меняются очень резко (“истерическая неустойчивость аффектов”). Возможно, Сара Бернар обладала многими истерическими чертами; литературная героиня Скарлетт О’Хара имела ряд качеств, которые современные диагносты расценили бы как театральные. Людям с истерической структурой характера нравятся бросающиеся в глаза профессии – профессии актера, танцора, проповедника, политика или учителя.
---
Драйвы, аффекты и темперамент при истерии
---
Многие исследователи считают, что истерически организованные люди по темпераменту являются напряженными, гиперчувствительными и социофилическими личностями. Ребенок, который брыкается и пронзительно кричит, когда он фрустрирован, но вопит с ликованием, если им занимаются, вполне может иметь конституциональную предрасположенность к истерии.
Истерически организованные люди разительно отличаются от обсессивных качеством своих мыслительных операций. В частности, им свойственна импрессионистичность, глобальность и образность. Некоторые высокообразованные люди с истерической организацией личности являются необыкновенно креативными. Благодаря объединению данных аффективной и чувственной апперцепции с более линейными, логическими подходами к познанию, они порождают прекрасные образцы интеграции интеллектуального и художественного способа восприятия.
Фрейд (1925,1932) и многие последующие аналитики (например, Marmor, 1953; Halleck, 1967; Hollender, 1971) выдвинули предположение о двойной фиксации при истерии – на оральных и эдипальных проблемах.
Фиксация на оральной стадии - недостаток защиты, самоценности и сытости.
Вслучае с девочкой - она нуждается в особенно отзывчивой материнской заботе. Затем она разочаровывается в своей матери, которой не удается сделать так, чтобы девочка почувствовала себя адекватно защищенной, сытой и ценимой. По мере приближения к эдиповой фазе, она достигает отделения от матери посредством ее обесценивания и обращает свою интенсивную любовь на отца как на наиболее привлекательный объект
Фиксациая на эдиповой стадии - идеализация родителя противоположного пола и одновременная ненависть и зависть (к пенису/вагине):
Привязанность к противоположному полу и одновременное наказание за предполагаемое превосходство.
Использует сексуальность и идеализацию для того чтобы достичь силы противоположного пола.
Секс используется скорее как защита а не способ самовыражения, поэтому с трудом достигает наслаждения от интимной близости.
Фрейд, наблюдая сны пациенток, предположил, что женщины отождествляли беспомощность – и свою собственную, и беспомощность своих матерей – с отсутствием пениса.
---
Защитные и адаптивные процессы при истерии
---
Люди с истерической структурой личности используют вытеснение, сексуализацию и регрессию. Им свойственно противофобическое отреагирование вовне (acting out), обычно связанное с озабоченностью вымышленной властью и опасностью, исходящими от противоположного пола. Они также используют диссоциативные защиты в широком смысле, о чем я еще скажу в следующей главе.
Соматизация и вытеснение
Фрейд предположил что истероидные соматизируют сексуальные импульсы.
То есть вытесняют и смещают эротическое внимание на неэротическое внимание к проблемам, которые возникают в теле (конфликт между Супер-эго и Ид).
Сексуализация и вытеснение
Люди, которые подавляют эротические побуждения и конфликты, кажущиеся опасными или неприемлемыми, обычно чувствуют себя сексуально неудовлетворенными и несколько беспокойными. Их нормальные желания близости и любви усиливаются, как если бы они подпитывались неудовлетворенным сексуальным желанием. Они бывают очень сексуально провоцирующими (возвращение подавленного), но при этом не осознают сексуального предложения, кроющегося в их поведении. И действительно, они зачастую бывают шокированы, когда их действия воспринимаются как приглашение к сексуальному контакту. Более того, если они уступают такому неожиданному предложению (как они иногда и поступают как для того, что бы умиротворить пугающий сексуальный объект, так и для того, чтобы смягчить чувство вины за последствия своего поведения), в этом случае они обычно не получают сексуального удовлетворения.
Регрессия
Чувствуя незащищенность, опасность отвержения или сталкиваясь с затруднением, которое стимулирует подсознательное чувство вины и страха, они могут стать беспомощными и ребячливыми в попытке защититься от неприятностей, обезоруживая потенциальных обидчиков и людей, чьего отвержения боятся. Это может быть наигранное онемение, девичьи смешки и излияния чувств по отношению к мужчинам. В XIX веке его эквивалентом стали обмороки.
Отреагирование вовне (acting out)
Эта защита имеет противофобический характер. При этом истероидные стремятся к тому чего боятся.
Допустим соблазнение при страхе секса. Или эксгибиционизм при одновременном стыде. Быть центром внимания при субъективном понимании того что хуже других. Героические поступки при страхе агрессии.
Важно понимать - что это наиболее частая черта истерических личностей - и именно этот стиль привлекает внимание людей.
Диссоциация
Поскольку люди с истерической структурой имеют избыток бессознательной тревоги, вины и стыда, и, возможно, также потому, что по темпераменту они напряжены и подвержены перестимуляции, они оказываются легко подавляемы. Переживания, выносимые для людей другого психологического типа, могут оказаться травматическими для истериков. Поэтому, они часто прибегают к механизму диссоциации для уменьшения количества аффективно заряженной информации, с которой они должны одновременно иметь дело.
Это может быть "очаровательное безразличие" - минимизация тяжести ситуации или болезни; ложные воспоминания; вера в свою ложь во время рассказа; состояния фуг; телесная память о травмирующих событиях, не вспоминаемых сознательно; неуемность в еде или приступы истерической ярости и т.д.
---
Объектные отношения при истерии
---
Истерогенная ситуация в семье создается когда девочка видит в семье большую власть мужчин.
Когда этому ребенку оказывается позитивное внимание, оно распространяется только на поверхностные, внешние атрибуты, на ее внешний вид и хорошее поведение, на инфантильные черты (ее невинность и сообразительность). Если на братьев обращается отрицательное внимание, их предполагаемые недостатки приравниваются к проявлению женских черт: “Ты бросаешь (что-то), как девчонка!” или: “Ты ведешь себя так, как будто ты не мужчина!”. По мере того, как девочка становится старше и более зрелой физически, она замечает, что отец отстраняется от нее и кажется неудовлетворенным ее развивающейся сексуальностью. Она ощущает себя глубоко отвергаемой по причине своего пола и в то же время чувствует, что женственность обладает странной властью над мужчинами (Celani, 1976; Chodoff, 1978, 1982).
Родитель противоположного пола - властный и идеализируемый. Родитель своего пола - слабый и беззащитный.
Очень часто отмечалось (Easser & Lesser,1965; Herman,1981), что отцы многих театральных женщин были одновременно личностями и внушающими страх, и соблазнительными. Мужчины могут с легкостью недооценивать то, какими устрашающими они могут казаться маленьким детям женского пола. Если у мужчины бывают приступы гнева, грубого критицизма, беспорядочного поведения или, особенно, инцестное поведение, он может внушать ужас. Любящий и пугающий маленькую девочку отец создает своеобразный конфликт притяжения-отталкивания. Он является возбуждающим, но внушающим страх объектом. Если кажется, что он доминирует над своей женой, например, в патриархальных семьях, этот эффект увеличивается. Его дочь сделает вывод, что люди ее пола ценятся меньше, особенно если дни восхитительного детства уже прошли, и что к людям одного с ее отцом пола следует подходить осторожно.
Таким образом, в формирование истерической структуры личности вносит свой вклад ощущение проблематичности чьей-либо сексуальной идентичности. Некоторые маленькие мальчики, выросшие при “матриархате”, где их принадлежность к мужскому полу была опорочена (иногда с презрительным противопоставлением гипотетическим “настоящим мужчинам”), развиваются в истерическом направлении, несмотря на преимущество, традиционно отдаваемое мужчинам в целом.
Например, существует небольшая, но легко идентифицируемая подгруппа гомосексуалистов, которые подходят под критерии театральной личности по DSM-IY, в чьих семьях и выявлена такая описываемая динамика (Friedman, 1988).
Наиболее частое распространение истерии среди женщин, как мне кажется, объясняется двумя фактами: 1) мужчины в целом обладают большей властью в обществе, чем женщины, и ни один ребенок не может не заметить этого; и 2) мужчины принимают меньшее непосредственное участие в заботе о младенцах, и это делает их более привлекательными, легко подходящими для идеализации “другими”.
Бег по кругу: идеализация (сильный), и затем разочарование (мягкий, слабый, женоподобный)
Женщина может использовать для этого свою сексуальность и затем обнаружить, что не имеет удовлетворительного сексуального ответа на физическую близость с таким человеком. Она может также, поскольку предполагаемая сила ужасает ее, попытаться пробудить более нежные стороны мужчины-партнера и затем бессознательно обесценить его как недостаточно мужественного (мягкого, женоподобного, слабого). Некоторые истерически организованные люди – как мужчины, так и женщины – таким образом проходят через повторяющиеся круги замешанной на половой принадлежности переоценки и разочарования.
---
Истерическое собственное “Я”
---
Главное ощущение себя при истерии – чувство маленького, пугливого и дефективного ребенка, преодолевающего трудности так хорошо, как только и можно ожидать в мире, где доминируют сильные и чужие другие.
Манипулирование
Манипулирование истерических отличается от манипулирования психопатов, тем, что оно вторично по отношению к их основному стремлению к безопасности и принятию. Их управление другими включает попытки достичь островка безопасности посреди пугающего мира, сделать устойчивым чувство самоуважения, овладеть вызывающей беспокойство ситуацией, активно инициируя ее, выразить бессознательную враждебность или некоторую комбинацию этих мотивов. Они обычно не ищут удовольствия в том, чтобы “превзойти” кого-либо.
Пример из практики - аспирантка театрального института.
Например, одна из моих пациенток, аспирантка театрального института, молодая женщина, воспитанная в семье с любящим, но переменчивым, вспыльчивым отцом, раз за разом впадала в безрассудные увлечения мужчинами, пользующимися уважением, и прилагала все усилия, чтобы стать любимой ученицей каждого из них. Она подходила ко всем своим преподавателям-мужчинам с искусной лестью проникнутой благоговением ученицы и рационализировала эту манеру как соответствующую положению студентки, отданной на милость деспотических мужчин. Некоторым из преподавателей было трудно игнорировать ее соблазнительность. Когда женщина начинала получать сигналы, что они привлечены ей, то реагировала на это радостным возбуждением (чувствуя себя сильной и оцененной), оживлением (от чувства своей привлекательности и желанности), страхом (из-за их перехода от увлеченности к сексуальным требованиям) и чувством вины (от навязывания им своей воли и возбуждения их запретного эротического интереса). Ее манипулятивность была ограничена мужчинами, причем именно мужчинами, имеющими авторитет, и, хотя и глубоко вытесненная, она была полна конфликтов.
Нарциссическая защита - расширение
Самоуважение у театральных людей часто зависит от их периодического достижения ощущения того, что они обладают таким же статусом и силой, как и люди противоположного пола. “Этот могущественный человек является частью меня”. Сексуальные отреагирования могут быть подогреты бессознательными фантазиями, что быть пенетрированной сильным мужчиной – значит каким-то образом присвоить его силу.
Спасение других
Другим способом достижения самоуважения для людей с истерической организацией личности является спасение других. Они могут проявлять заботу о своем внутреннем испуганном ребенке посредством обращения, оказывая помощь ребенку, которому угрожает опасность. Также есть феномен доброй, отзывчивой, любящей женщины, влюбляющейся в хищного, разрушительного мужчину в надежде “спасти” его.
Проблемы самоидентификации в гендерном плане
В образах сновидений истерических мужчин и женщин нередко можно найти символы, представляющие обладание, соответственно, секретной маткой или пенисом. Истерически организованные женщины склонны рассматривать любую силу, которой они обладают благодаря естественной агрессии, скорее как представляющую их “мужскую” сторону, чем интегрированную часть своей половой идентичности. Неспособность чувствовать силу в женственности создает для истерически организованных женщин неразрешимую самовозобновляющуюся проблему. Как сказала одна из моих клиенток: “Когда я чувствую себя сильной, я чувствую себя мужчиной, а не сильной женщиной”
Сексуальность и внешняя привлекательность воспринимается как единственный потенциал для развития
Представление, что другой пол обладает преимуществом, создает бросающуюся в глаза парадоксальность женщин с истерической структурой личности: несмотря на бессознательное ощущение того остоятельства, что сила неотрывна от маскулиности, их сэлф-репрезентация непоколебимо женская. Поскольку они считают, что единственным потенциалом женственности является их сексуальная привлекательность, эти пациентки могут быть чересчур обеспокоены тем, как они выглядят, и сильнее других людей боятся старения. Трагикомические качества состарившейся истерической женщины были схвачены в характере Бланш Дюбуа в пьесе Теннеси Уильямса “Трамвай Желание”. Любого клиента с истерическими наклонностями, мужчину или женщину, нужно поощрять к развитию других областей (кроме внешней привлекательности, в которых можно находить и реализовывать самоуважение.
Склонность к тщеславию и соблазнению как защита от вторжения и эксплуатации
Склонность к тщеславию и соблазнению у истерических людей, хотя и составляет нарциссическую защиту в том смысле, что эти отношения служат для получения и поддержания самоуважения, отличается от поведения нарциссов. Люди с истерической структурой не являются внутренне индифферентными и пустыми; они очаровывают людей, так как боятся вторжения, эксплуатации и отвержения. Когда у них нет этих причин для беспокойства, они искренне радушны и приветливы. У более здоровых истерических людей любовные аспекты их личности заметным образом конфликтуют с их защитными и иногда разрушительными наклонностями. Вышеупомянутая студентка мучилась сознанием вины за свое поведение с мужчинами, которых так старалась привлечь, и, хотя в большинстве случаев она как женщина была способна диссоциировать эти чувства, она ощущала себя виноватой по отношению к их женам.
Эксгибиционизм из за страха показать себя кастрированным и как лечение
Поведение истеричных людей, направленное на привлечение внимания, имеет бессознательное значение попытки подтверждения того обстоятельства, что их принимают – особенно, если ценится их пол, в противоположность детскому опыту. Истерически организованные индивидуумы имеют тенденцию в бессознательном чувствовать себя кастрированными. Выставляя напоказ свое тело, они могут обращать пассивное ощущение телесной неполноценности в активное чувство силы в области телесности. Таким образом, их эксгибиционизм имеет противодепрессивную направленность.
Яркое выражение чувств из за страха неуважения к чувствам
Аналогично можно понять и объяснить ассоциированную с истерией “поверхностность чувств”. Правда, когда театральные люди выражают свои чувства, они нередко выражают драматизированные, неаутентичные, преувеличенные качества. Это, однако, не означает, что они “на самом деле” не испытывают эмоций, о которых говорят. Их поверхностность и очевидная наигранность проистекают из чрезвычайной обеспокоенности тем, что случится, если они опрометчиво выразят себя перед тем, кого считают сильным. Так как в свое время их обесценивали и инфантилизировали, они не ждут уважительного внимания к своим чувствам. Эти люди преувеличивают эмоции, чтобы избавиться от тревоги и убедить самих себя и других в своем праве на самовыражение.
Одновременно, давая понять, что их не следует в действительности принимать всерьез, они сохраняют для себя возможность отречься от своих слов или минимизировать их значение, если вдруг опять окажется, что это – еще одно небезопасное место для самовыражения. Восклицания наподобие: “Я был т-а-а-а-к взбешен!”, сопровождаемые театральным вращением глазами, приглашают интервьюера рассматривать эмоцию как не имеющую место в действительности или как тривиальную.
В конечном итоге, в атмосфере абсолютного уважения, театральный индивид будет способен описать свой гнев и другие чувства прямо, в словах, вызывающих доверие, и дополнить реактивный, импрессионисткий стиль действенным, аналитическим.
---
Перенос и контрперенос с истерическими пациентами
---
Перенос первоначально был обнаружен с пациентами, чьи жалобы относились к сфере истерии, и не случайно он был столь заметен именно с ними.
Театральные люди сильно ориентированы на объекты и эмоционально выразительны. Они с большей охотой, чем другие типы, обсуждают свое поведение с людьми вообще и с терапевтом в частности. Вероятно, читатель сможет увидеть, как, при наличии описанной выше динамики, комбинация истерической пациентки и мужчины-терапевта немедленно пробуждает центральный конфликт клиентки.
Природа первоначального переноса будет меняться в зависимости от пола и пациента, так и терапевта
Поскольку истерическая личность – это психологический тип, для которого вопросы, связанные с полом, доминируют в том аспекте, как пациент видит мир, природа первоначального переноса будет меняться в зависимости от пола и пациента, так и терапевта. С мужчиной терапевтом клиенты-женщины обычно чувствуют себя возбужденными, испуганными и защитно-соблазняющими. С женщиной-терапевтом они часто слегка враждебны и конкурентны. И с обоими – чем-то напоминают детей. Пациенты-мужчины также психологически зависимы от выработанного ими взгляда на половые различия, но их перенос будет изменяться в зависимости от того, кто в их внутренней космологии обладает большей властью – материнская или же отцовская фигура. Большинство истерических клиентов склонны к сотрудничеству и ценят интерес терапевта. Истероидных людей пограничного и психотического уровня бывает трудно лечить, так как они отреагируют очень разрушительно и чувствуют сильную угрозу со стороны терапевтических отношений (Lazare, 1971).
Сила переноса
Однако даже истерические клиенты высокого функционального уровня могут иметь переносы такой интенсивности, что становятся почти не отличимы от психотиков. Сильные переносы изматывают как терапевта, так и пациента, но с ними можно эффективно работать посредством интерпретации. Терапевты, чувствующие себя уверенно в своей роли, найдут в этом (что и сделал Фрейд) не препятствие для лечения, а, скорее, средство исцеления. Если театральные пациенты слишком испуганы, чтобы допустить такие пылкие реакции в присутствии терапевта, они могут отреагировать вовне с объектами, являющимися его очевидными замещениями. Мой супервизор по имени Джеймс начал встречаться с истерической молодой женщиной, отец которой попеременно был травмирующе навязчивым или отвергающим. В течение нескольких первых месяцев лечения она последовательно имела отношения с мужчинами по имени Джим, Джеми и Джей.
Я работала с несколькими женщинами, которые были настолько взволнованы собственной враждебностью и обесцениванием, которые чувствовали в моем присутствии, что не могли продолжать ходить ко мне.
... замена терапевта на другого (кто кажется менее похожим на первоначальный перестимулирующий или обесцененный объект) может дать хорошие результаты.
Отношение к чувствам
Бывает трудно выслушивать псевдотеатральность истерических. Это часто располагает к насмешкам. Однако большинство истерически организованных людей чрезмерно чувствительны к межличностным намекам, и отношение снисходительной насмешки сильно ранит их, даже если им удастся удержать неуважение терапевта вне осознания.
Прежде чем стало политически некорректным открыто говорить о своем пренебрежении к женщинам, нередко можно было услышать, как (мужчины) терапевты в разговорах один на один сочувствовали друг другу по поводу своих раздражающих истерических пациенток. “Мне досталась эта психованная истеричка: заливается слезами каждый раз, как только я нахмурюсь. А сегодня пришла в юбке, которая едва прикрывает ее бедра!”
Всемогущество перед маленьким ребенком.
Регрессия – главное оружие в истерическом арсенале. Все же удивительно, как много терапевтов принимают приглашение истериков и разыгрывают всемогущество. Привлекательность игры в Большого Папу беззащитной и благодарной малышки, очевидно, очень велика. Я знала многих в целом дисциплинированных практиков, которые, однако, при лечении истерически организованных женщин не могли сдержать своего побуждения дать ей совет, похвалить, подбодрить, утешить, несмотря на то, что подтекстом всех этих сообщений является предположение, что она чересчур слаба, чтобы позаботиться о себе самой и развивать свою способность оказывать себе поддержку и обеспечивать собственный комфорт.
Быть испуганным и быть некомпетентным – не одно и то же
Поскольку регрессия у большинства театральных людей носит защитный характер – защищает их от чувства страха и вины, сопутствующих принятию на себя взрослой ответственности, – ее не нужно путать с искренней беззащитностью. Быть испуганным и быть некомпетентным – не одно и то же. Проблема слишком сочувственного и потакающего отношения к истеричным людям, даже если в таком отношении не ощущается враждебной снисходительности, заключается в том, что самопринижающая концепция клиента будет усилена. Позиция родительской снисходительности является столь же оскорбительной, как и высмеивание “манипулятивности” пациента.
Искушение соблазнениям
Наконец, следует упомянуть об искушении в контрпереносе в ответ на соблазнительность пациента. И снова это в большей степени угрожает терапевтам-мужчинам, чем терапевтам-женщинам, как было отмечено во всех имеющихся на сегодня исследованиях сексуальных злоупотреблений по отношению к клиентам (Pope, Tabachnick & Keith-Spiegel, 1987).
Следствия теории и уроки практики наглядно показывают, что сексуальные контакты с пациентами имеют разрушительные последствия (Smith, 1984; Pope, 1987).
Предложить помощь не используя клиента
То, что нужно истерическим клиентам (а это как раз противоположно тому, что они считают необходимым для себя, когда в ходе терапии активизируется их центральный конфликт), так это опыт мощных желаний, не эксплуатируемых объектом, на который они обращены. Попытка и провал соблазнения кого-либо ведет к глубокой трансформации театральных людей, поскольку – зачастую, впервые в жизни – они узнают, что авторитетные лица могут предложить им помощь, не используя их при этом, и прямое проявление собственной автономии более эффективно, чем защитные, сексуализированные ее извращения**.
Вторая, заключительная часть будет позже.
Краткий реферат по главе "Истерические личности"
из книги Нэнси Мак-Вильямс. "Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в клиническом процессе."