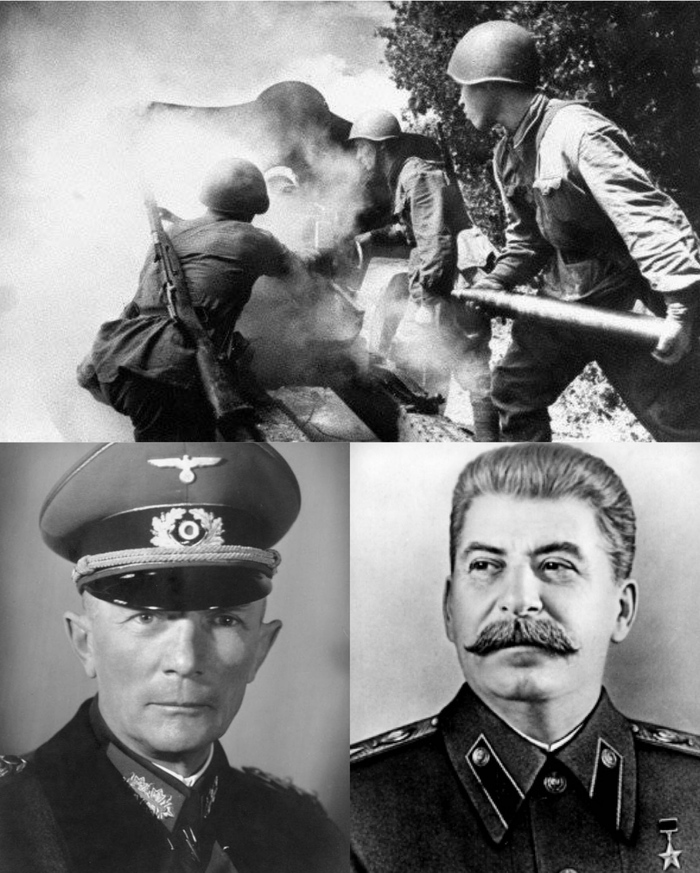Нет ни одного периода русской истории, которое бы оставалось загадкой, не смотря на огромное количество исследований. Не посягая на истину в последней инстанции, предлагаю в качестве ключа к пониманию итогов Смуты, воспользоваться словом "язычник".
Как филолог, я хорошо знаю, что это выражение, как и другие слова русского языка, которые мы считаем исконными ("бублик", "водка", "интеллигенция", "суеверие" и т.д.), пришло в наш язык вместе с польско-литовской шляхтой, (П.Я.Черных), но вот в чем проблема. Закрепилось это слово в значении "иноверец", "идолопоклонник" и даже "представитель чужого народа", хотя в славянских языках "язычник" - это представитель "языка", то есть народа.
Смута - это поток польско-литовской шляхты, который растекался по парализованному Московскому государству. Отряды Речи Посполитой, очевидно, состояли из представителей Русского воеводства Короны польской (бывшее Галицко-Волынского княжество) и Литовской Руси в составе Великого Княжества Литовского (территория современной Беларуси плюс смоленские, верхнеокские земли). Надо сказать, что язык, на котором эти панове изъяснялись, не отличался от языка, на котором написаны берестяные грамоты Великого Новгорода. И в столкновении с угро-мерянским населением Московского государства оккупанты называли аборигенов словом "языкъ" ("народ"). Учитывая, что последние относились к шляхте, мягко говоря, "неприветливо" (вспомнить хотя бы мордвина Ивана Сусанина), славянское слово "язычник" ("язычьнъ"), означавшее "представитель народа", в устах панов получило противоположный смысл: "иноверец", "дикарь", "представитель чужого народа".
Кстати, неприязнь была взаимной. Ведь речь оккупантов, волей-неволей приживавшаяся на московской земле, отмечена большим количеством неологизмов. Это польские слова, получившие на угро-эрзянской почве иронический (противоположный) смысл:
Stół — стол, стул — krzesło (кресло)
Jutro — завтра, утро — rano
Zapomnieć — забыть, запомнить — zapamiętać (запамятовать)
Woń — аромат, вонь — smród (смрад)
Broń — оружие, бронь — rezerwacja (резервация)
Miłość — любовь, милость — litość (лютость)
Puszka — жестяная банка, пушка — armata
Wór — мешок, вор — złodziej (злодей)
Czaszka — череп, чашка — filiżanka
Rzutki (жуткий) — предприимчивый, жуткий — straszny (страстный)
Я конечно могу ошибаться, но лично меня не отпускает ощущение, что изначально "дразнилки" выражали отношение коренного населения Московского государства к новым помещикам. Между прочим, захваченные шляхтой поместья в народе так и назывались: "русскими" (данные из документов штаба Пугачева).
Увы и ах! Вторжение шляхты в Московию было несколько более продолжительным и более масштабным, чем пишут учебники. Факты говорят, что после воцарения новой династии численность "детей боярских" (так называли в Московском царстве дворян при старой династии) продолжала увеличиваться за счёт оккупантов. Учёные подсчитали, что в период с 1604 по 1644 год, то есть с начала Смуты и до последнего года царствования нового царя Михаила Федоровича, общее число московского дворянства увеличилась в 7 раз! Иными словами в послесмутное время Московское государство, получившее фиктивного царя (Михаил был из нединастического рода), фактически находилось во власти окружавших трон пролитовских бояр и польско-литовской руси.
Засилье шляхты в привелигированных слоях Московского царства привело к тому, что дворянская культура, чем дальше, тем больше, становилась польской. При Федоре Алексеевиче уже действовал открытый "дресс-код" по которому ко двору не допускались лица, одетые не по-литовски. Языком московского дворянства стал язык польско-литовской руси. По этой же причине "дети боярские" стали называться "шляхтой" и эта традиция сохранялась вплоть до 19 века, хотя в правление Петра Первого вошло в обиход слово "дворяне". Первым отечественным учебником по русскому языку стала "Грамматики славенския правилная синтагма", которую сразу после воцарения Михаила Федоровича в 1619 году о печатал в имении князей Огинских литвин Мелентий Смотрицкий. "Грамматика" в Московском царстве была единственным учебником, по которому учили читать и писать вплоть до "Грамматики" Ломоносова, изданной в 1757 году. Делопроизводство в Московском царстве, ещё со времён Лжедмитрия Первого было переведено на европейские стандарты, а в 1649 году становится европейским и все московское законодательство - знаменитое Соборное Уложение фактически копирует литовские статуты 1588 года. Кстати, тогда же Московское государство получает и польское крепостное право, где смерды находились на положении домашних животных.
Как известно, после того, как польско-литовские захватчики посадили на московский престол свою марионетку, король Речи Посполитой Казимир понял, что его предали. Ведь экспедиционный корпус, который он послал, чтобы завоевать Московию, перестал действовать в интересах метрополии. Казимир объявил Московии войну, в которой "русские" (впервые это слово появилось в польской литературе) не просто дрались на стороне противника - они перетягивали на свою сторону единоплеменников, тем самым усиливая "русскую" составляющую среди московских "детей боярских". Попавшим в плен солдатам Речи Посполитой давали дворянское достоинство и отправляли служить в дальние гарнизоны. Например, в 1633 году Томский острог принял 200 таких "военнопленных". В том числе 30 высокородных шляхтичей (Бжицкие, Сабанский, Сваровские, Хозинский, Ядловский, Ржицкий и др). Многие стали видными деятелями в истории завоевания Сибири.
Понятно, что столь странное отношение к военнопленным не могло не остаться незамеченным в стане противника. В королевской армии пошел слух, что московский плен - это самый желанный результат участия в этой войне. Численность московских "полков иностранного строя" стала расти как на дрожжах. В 1654 году на стороне Москвы против Речи Посполитой воюет уже шесть гусарских полков. Это в общей сложности около двух с половиной тысяч перебежчиков из Речи Посполитой. В том же 1654 году дело доходит до того, что сдается целая армия Речи Посполитой. Ее гетман Богдан Хмельницкий пишет Московскому царю: "Ми зо всим Войском Запорозким услужить вашой царской велможности готовисмо".
Не тогда ли патриарху Филарету пришла в голову гениальная идея: представить переход на сторону противника как "воссоединение"? До этого "древнерусские" княжества в составе Московского царства (как и Великий Новгород) рассматривались Кремлём не иначе как покоренные данники. Теперь же они все чаще представлялись как близкие родственники Московскому княжеству. Одновременно увидел свет и Новый летописец, правленный рукой Филарета, где Москва не плоть от плоти Сарая (кстати, от слова "сар" - так до Смуты произносилось и писалось слово "царь"), а один из потомков Древней Руси. Таким образом, получается, что Москва ведет свое происхождение из того же источника, что и Русское воеводство Речи Посполитой. И не имеет значения, кто прав: авторы норманской теории или ее противники, главное, - новый этнический состав правящего сословия получил историческое обоснование, а значит, царство может продолжить движение в направлении новой цивилизационной ориентации.
Естественно, возникает вопрос, а какой тогда была Москва до Смуты? На каком языке говорила? Каким богам поклонялась? По свидетельству современников, элита Московского царства имела "единую" культуру с Османами. И одежда, и военный строй, и оружие, и архитектура (взгляните непредвзято на Московский Кремль). Вероятно и язык был общий. В Москве он назывался "татарский", хотя в аристократических кругах котировался церковнославянский, да русский язык, потому что это был язык Европы. Та же польская историография, которая по факту является носителем европейских традиций, настаивает на том, что до 15 века на славянских диалектах говорили, в том числе и в Австрии, Италии, Германии и Турции. Не случайно, Михайле Ломоносову, согласно выданным ему командировочным документам, вменялось научиться в Тюрингии не только разным "наукам", но и "русскому языку".