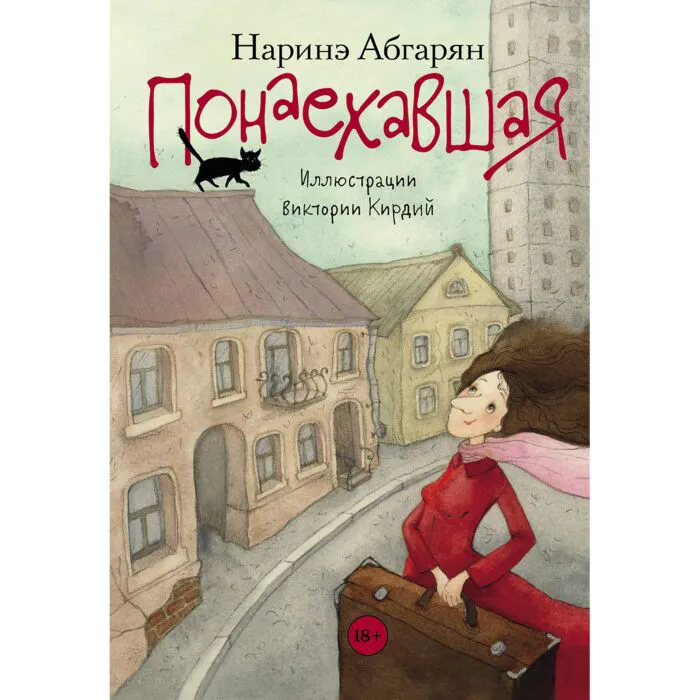Манила - Москва. Пора «домой»
Ну вот. Два дня в Маниле растворились, как лёд в дешевом виски. Два дня пьянства, которые я скорее ощущаю, чем помню. Синяки на теле, так оно помнит барные стойки и холодный кафель в уборной моего номера — там я провёл времени больше, чем в кровати.
Стюардесса только что спросила, как я себя чувствую. Я попытался улыбнуться. Должно быть, получилось настолько херово, что она испугалась вдруг пассажир скончается на её смене. Принесла какие-то таблетки.Скорее всего из личной аптечки и в нарушении протокола. Потому что я не понял, что написано на упаковке, ни слова по-английски. Я просто принял их, как святое причастие. И, чудо, минут через десять воскрес. Восточная медицина — она ведь и правда волшебство. Волшебство для тех, кому нечего больше терять, ну разве что похмелье.
Это странный ритуал. Писать тебе и не отправлять. Будто разговор на могиле. Наверное, нужен перерыв. Это уже третье письмо за неделю. Письмо, которое я снова не отправлю.




От письма отвлекло уведомление из Инстаграм. Чёрт. Я вчера, оказывается, дал свой настоящий аккаунт той девушке из бара. Обычно я скармливаю пустой, запасной. Она отправила запрос. И каждый раз эта неловкость, этот мелкий, гадкий укол — нажимать кнопку «Заблокировать». Казалось бы, мелочь. А чувствуешь себя слегка паршиво.
Интересно, как ты там. Твоя страница закрыта уже полгода. Фотографии всё те же, старые. Застывший мир. Иногда мне кажется, я смотрю не на твой аккаунт, а на заброшенный планетарий, где звёзды замерли в той же позиции, в какой мы их оставили. Недавно пыталась добавиться твоя подруга. Надеюсь, ты в курсе. Надеюсь, она хотя бы спросила. А то как-то… не по-дружески. Или ты сама меня «отдала»?
Пересадка в Пекине. Время здесь не идёт — оно выцвело, как рекламный баннер в пустом транзитном зале. Одна и та же рутина: очередь на повторный досмотр, мерцание экранов с вылетами, одинаковые магазины duty-free с одинаковыми духами. Я ловлю себя на том, что смотрю на часы каждые десять минут, хотя в этом нет смысла. Время все равно не двигается.
Я хочу только одного — оказаться в самолёте. Пристегнуться, откинуть кресло, надеть маску на глаза. Чтобы стюардесса выключила свет, и осталась только ровная, тёмная пустота за иллюминатором и гул двигателей. Уснуть. Не отдыхать, а именно вырубиться, как от укола. Здесь, в этой серой лимбо-зоне, я уже почти завидую своему будущему «я» в самолёте. Ему хотя бы разрешат закрыть глаза. А пока я просто жду, механически следуя за потоком таких же уставших, безликих фигур к выходу на посадку.
Самолёт резко качнуло, встряхнув остатки дремоты. В салоне зажглись табло, и тихий, безразличный голос по громкой связи объявил о снижении, пристегнуть ремни и что температура в Москве — около нуля, пасмурно. Около нуля. Слова повисли в воздухе, как холодный пар. Мой мозг, затуманенный усталостью и остатками манильского рома, попытался осмыслить всю ту же информацию, ведь я это слышал когда приземлялся в Пекине, но почему-то только сейчас осознал, что я возвращаюсь в место, которое в ближайшие пару месяцев с каждым днем будет заковывать себя в ледяной панцирь все сильнее и сильнее.
В Лондоне, откуда я вылетал в Манилу, 5 дней назад было плюс двенадцать. Я тогда, рационально оставил в номере тёплый свитер и джинсы. «Зачем везти лишнее? — подумал я. Логично. Совершенно логично.
А потом были эти два дня в Маниле. Пьянство, которое стёрло всё, включая само понятие времени. Я не был в Москве почти четыре месяца. С конца августа. Я улетел, когда ещё листья были зелёными. А в моей голове с тех пор был только вечный перелёт: Лондон, Дубай, Сингапур, снова Дубай, снова Лондон и вот эта пьяная Манила с её почти тридцатью градусами жары. Я будто вычеркнул саму возможность зимы.
Самолёт пошёл на снижение. За окном, в кромешной черноте, сначала не было ничего. Потом они проступили — не огни, а россыпи холодных, жёлтых бусинок, рассыпанных по чёрному бархату. Москва. Не живой город, а электрическая схема, чертёж. Ровные линии проспектов, тёмные пятна парков. И вдали — резкая, ядовитая гроздь сине-белых кристаллов Москва-Сити.Я смотрел на эту схему и ловил себя на мысли, что не чувствую ничего. Ни родного тепла, ни щемящего узнавания. Потому что это — не дом. Это адрес, координата успеха. Красивая, бездушная матрица, в которую я встроился, как чужой чип. Эта панорама с высоты лишь подчёркивала масштаб отчуждения.Потом узор начал стремительно приближаться, распадаясь на отдельные огни фонарей, машин. И вот она — полоса Шереметьево. Длинная, серая, полоса бетона. Она встретила самолёт неяркими, призрачными огнями по краям. В иллюминаторе поплыли лужи, отражающие красные и белые вспышки. Не радушная встреча, а просто точное совпадение координат. Механическое касание колёс о асфальт. Рывок, рёв реверса, и мы уже катимся по этой серой, знакомой дороге к терминалу.Шереметьево. Я шагнул из салона в рукав, который встретил лёгкой прохладой, как репетицией настоящего холода, что уже стоял за стенами аэропорта
Паспортный контроль. Молчание. Офицер в форме, быстрый взгляд, удар штампа — тупой, глухой. Отметка. Разрешение на вход обратно в мою жизнь. У меня только небольшая кожаная сумка, вписывающаяся в критерии ручной клади. Мой вечный спутник. Никакого багажа. Я давно научился обходиться минимумом вещей. И сегодня поплатился. В принципе это не было особой проблемой, у выхода уже стоял мой водитель. Тёмный, неподвижный силуэт в толпе. Его взгляд скользнул по мне, по моей рубашке-поло и льняным штанам, задержался на секунду. Ни тени удивления. Ни намёка на вопрос. Просто констатация факта в его глазах, что я одет как идиот. Но он привык, наверное, ко всем нелепым ситуациям в моей жизни. Легкий, деловой кивок. Молча взял у меня сумку. Молча развернулся и пошёл к выходу, рассекая толпу. Я — за ним, чувствуя, как ледяной воздух из щелей у дверей уже начинает кусать кожу выше мокасин.Этот ритуал отточен до секунды, до шага. В нём нет места ни для каких «как полёт?». Есть только движение из точки А в точку Б. Сегодня точка Б — это холод. Резкий, сырой воздух ударил в лицо, когда мы вышли к машине. По коже побежали мурашки. Я не подготовился. Я думал, что везу с собой ещё немного того, тёплого воздуха. Но он остался там, в транзитных зонах. Это был не просто выход из аэропорта. Это было резкое, грубое возвращение. Не в город. В начало декабря.
Я смотрел, как вдалеке начинают вырастать из тьмы знакомые огненные кристаллы Москва-Сити. Сперва они кажутся игрушечными, нереальными. Потом становятся больше, холоднее, откровеннее. Это не маяк, не цель. Это просто ориентир. Моя личная геолокационная метка на карте мира. «Вы прибыли в точку назначения». Точка — это ключевое слово. Без объёма, без сердца.Машина бесшумно остановилась у входа в башню. Стеклянные двери, ярко освещенные изнутри, отбрасывали на серый тротуар длинные, холодные блики. Водитель вышел, открыл мне дверь. Сухой, колючий воздух ударил в лицо.— Завтра? — спросил он коротко, передавая кожаную сумку.— В семь, — ответил я. Дыхание превратилось в облачко пара, повисшее в неподвижном воздухе. Он кивнул и вернулся за руль.Я зашел в башню и направился к лифту. Он будто ждал меня, двери закрылись, и тяжёлая, тонная кабина, казалось, пришла в движение с неестественной, почти пугающей лёгкостью. Она будто уносила меня с собой, в отрыве от всего, что оставалось внизу.
Я подхожу к окну. Где-то там, в этой мозаике огней, живут люди. Ссорятся, смеются, готовят ужин, гладят кошек. У них есть беспорядок, запахи, разбросанные носки, смешные магниты на холодильнике. А у меня есть этот вид. И тишина, которую можно потрогать.Завтра утром придут те, кто поддерживает эту иллюзию обитаемости. Сменят цветы, протрут эти безупречные поверхности, уберут единственный след — отпечаток от бокала на столешнице.
Возвращение сюда — это не возвращение домой. Это просто самая долгая, самая тягучая пауза между полетами. Здесь нет тебя. А значит, нет и дома.
У меня пара важных дел в Москве. Буду занят. Звучит как строчка из корпоративного календаря, которую я сам же и вбиваю. Встречи, подписи, цифры на экране. Всё это займёт время, заполнит дни, заставит мой голос звучать уверенно, а лицо — принимать нужное выражение. Я не отправляю эти письма и извиняюсь сам перед собой за это бесконечное, бестолковое бормотание в пустоту. Хорошо, что этого не знает совет директоров. У них бы точно появились вопросы к моей способности управлять компанией. И они были бы отчасти правы. Как можно управлять чем-то в мире, когда не можешь справиться с собственной жизнью?
Так вот, дела. Если улечу из Москвы до Нового года — напишу тебе из самолёта или из очередного отеля, где вид из окна будет таким же безличным, как и этот. Если же задержусь здесь, в этой стеклянной клетке над застывшим городом… то точно поздравлю тебя с Новым годом. Словно эти слова, написанные в черновик и никогда не отправленные, могут как-то пересечь время, пространство и ту тишину, что стоит между нами.
Ладно пора заканчивать. Обнимаю.