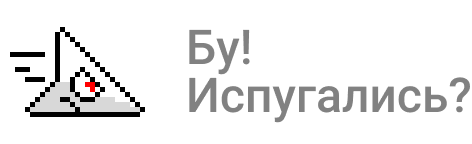Стремление к воспитанию поколения «новых людей» в 1920-е годы влияло и на рост числа новаторских проектов в сфере искусства и литературы для детей. Тут особую роль сыграл интерес авангарда к молодости и детству: ребенок мог видеться и как привлекательный символ собственного ушедшего детства, и как образ времен зарождений комплексов и страхов, и, наконец, как образ будущего, освобожденного от несовершенства настоящего. Один из теоретиков и авторов новых детских книг этой эпохи Сергей Третьяков заявлял, что «работник искусства» должен стать «психо-инженером, психо-конструктором» и пропагандировать «ковку нового человека». Так или иначе, в процесс этой «ковки» было вовлечено громадное количество литераторов и художников.
Важную роль в издании текстов для советских детей той эпохи сыграл созданный в 1924 году в составе советского Госиздата специальный Детский отдел. Его возглавили писатель Самуил Маршак и художник-график Владимир Лебедев. Оба оказали существенное влияние на развитие детской книги того времени. Вовлеченными в детское книгоиздание оказались самые разные литераторы той поры: от Емельяна Ярославского до Владимира Маяковского; от Даниила Хармса и Александра Введенского до Максима Горького. Представления этих людей о степени важности работы для детей и о ее смысле могли очень сильно отличаться. Но то, что в целом пронизывало эпоху, — это как раз признание несомненного значения воспитания «детской массы» в новом, коммунистическом ключе.
Советский архитектор и художник Эль Лисицкий в статье 1927–1928 годов «Наша книга» писал о значимости того эксперимента, который разворачивался в области поиска новых форм книгоиздания. По Эль Лисицкому, «внутренняя энергия», которая скопилась за время революции у молодых художников, нуждалась в «крупном народном заказе». Заказ этот исходил от «массы полуграмотных», освобожденных революцией. Но характерно, что особенно важным для него было то, что молодое поколение меняется под воздействием новой детской книги. Он подчеркивал: «Наши малыши уже учат при чтении новый пластический язык, они вырастают с другим отношением к миру и к пространству, к образу и краске…»
В области литературы, как и в сфере педагогики, среди большевистских идеологов не было единого мнения по поводу того, что именно нужно делать, чтобы правильно воспитать нового человека. Например, развернулась большая дискуссия о том, стоит ли советским детям читать сказки. «Нужна ли сказка пролетарскому ребенку?» — это вполне актуальный вопрос той эпохи.
Стоит заметить, что весомым доводом в разразившихся спорах часто оказывались не художественные достоинства, а именно педагогическая, воспитательная ценность (так, как ее понимали). Характерен небольшой эпизод, который Корней Чуковский зафиксировал в своем дневнике. Писатель рассказывал о визите к Надежде Крупской, которую просил содействовать выпуску поэмы «Крокодил»:
«Я — к Крупской. Приняла любезно и сказала, что сам Ильич улыбался, когда его племяш читал ему моего „Мойдодыра“. Я сказал ей, что педагоги не могут быть судьями лит. произведений, что волокита с „Крок[одилом]“ показывает, что у педагогов нет твердо установленного мнения, нет устойчивых твердых критериев, и вот на основании только одних предположений и субъективных вкусов они режут книгу…
Эта речь ужаснула Крупскую. Она так далека от искусства, она такой заядлый „педагог“, что мои слова, слова литератора, показались ей наглыми. Потом я узнал, что она так и написала Венгрову записку: „Был у меня Чуковский и вел себя нагло“».
То, что Крупская предстает «заядлым педагогом» в глазах Чуковского, не случайность. Дело здесь не только в личных педагогических интересах жены советского вождя — скорее в том, что идея воспитания нового человека подталкивала к тому, чтобы в вопросах взаимодействия с детьми ключевой становилась именно дидактическая логика — а никак не эстетическая. Воспитание и образование в подобной системе координат были практически в чистом виде идеологическими вопросами — вопросами создания большевиками «достойной смены».
Стремление к новаторству было существенной чертой школы 1920-х годов. Сильно было стремление отказываться от всего того, что ассоциировалось со старым, «дореволюционным» устройством образования: от телесных наказаний, от раздельного обучения мальчиков и девочек, от расписания, от предметной системы преподавания. В поисках наиболее прогрессивного и подходящего способа передать знания возникала чехарда учебных программ. Сменявшие друг друга экспериментальные методы, несмотря на их новаторство и перспективность, чаще всего не могли быть удачно внедрены в условиях советских школ. Непросто давалось и внедрение на практике заявленных советской властью принципов политехнического образования, то есть знакомства учащихся не только в теории, но и на практике «со всеми главными отраслями производства».
Школа была разделена на две ступени. Первая ступень — для учеников 8–11 лет, а вторая — для учеников 12–17 лет. Согласно разработанной Государственным ученым советом программе, изучение материала должно было быть выстроено по разделам. Ключевой здесь была попытка уйти от изучения школьных «предметов» к более гибкой системе, в которой освоение материала было связано с изучением окружающей действительности.
В школе первой ступени было три раздела обучения: «Природа», «Труд» и «Общество». В школе второй ступени количество изучаемого, разумеется, возрастало и включало уже географию, русский язык, литературу и прочее. При этом вплоть до 1932 года в советских школах не преподавали историю. Зато много внимания уделялось обществоведению, в которое должны были включать и сюжеты, связанные с прошлым.
Несмотря на то что советская послереволюционная школа ушла от раздельного обучения мальчиков и девочек и власти много говорили о равном доступе к школьному образованию, на практике обеспечить этот доступ удавалось только частично. Не хватало помещений, учителей, оборудования. Обучение в несколько смен было нормой. К тому же внутри школы 1920-х годов нередко возникало отчетливое разделение между привилегированными школьниками и учениками, имевшими «неправильное» социальное происхождение — например, из семей так называемых бывших (то есть ограниченных при советской власти в правах дореволюционных предпринимателей, дворян, священников и прочих).
Другой существенной чертой советской школы эпохи 1920-х годов стало распространение школьного самоуправления. Появившиеся сразу после революции формы самоорганизации учащихся сохранялись и в 1920-е годы. Распространенное в эту эпоху ученическое самоуправление оказывало ощутимое влияние на жизнь многих школ. Например, наказывать или нет того или иного провинившегося ученика, нередко решали именно органы ученического самоуправления. Разумеется, многие преподаватели критически относились к подобному ограничению собственных «полномочий».
Структурно высшим органом самоуправления учащихся обычно было общее собрание учеников. Оно избирало исполнительный орган. Часто он назывался учком (то есть ученический комитет), но мог иметь и другие названия: исполнительный комитет, бюро и так далее. В классах тоже могли избираться представительства, которые составляли класскомы или группкомы. Представители учащихся обычно входили в школьные советы, где заседали уже совместно с преподавателями, заведующим школы и прочими взрослыми школьными работниками.
Особенно большое значение в 1920-х имело самоуправление во многих школах закрытого типа, интернатах. Достаточно вспомнить знаменитое произведение этих лет — повесть «Республика ШКИД» и то, какую существенную роль в жизни героев этой книги играли структуры самоуправления.
Большевики, вероятно, видели в самоуправлении форму воспитания самостоятельности и коллективизма (столь важного для советского нового человека). Не случайно советский педагог и психолог Павел Блонский подчеркивал: «Трудовая школа является как бы прообразом идеального человеческого общества, трудового и самоуправляющегося, в котором царит единство труда и культуры».
В то же время власти, вероятно, противопоставляли школьное самоуправление «реакционно настроенным» учителям. Учителя же — или, как их нередко называли в то время учащиеся, «шкрабы» (то есть школьные работники) — часто находились в имущественном и психологическом смысле в очень тяжелом положении. Как заявил один современник: «Я — „шкраб“, раб, работник, то есть существо безличное, несамостоятельное, недостойное уважения».
Впрочем, к концу 1920-х — началу 1930-х годов влияние ученического самоуправления начинает повсеместно снижаться. Происходило последовательное вытеснение формально внепартийных структур самоуправления большевистскими детско-юношескими объединениями — комсомолом и пионерской организацией.
Движение пионеров возникло в 1922 году. Если в стенах школы действовали учителя, в чьей идеологической лояльности большевистская власть могла сомневаться, то тесно связанная с комсомолом пионерская структура должна была вызывать большее доверие.
В России еще до революции существовало скаутское движение, но оно не приобрело большого размаха (к 1917 году в нем состояло несколько десятков тысяч человек). Опираясь на опыт поддержавших новую власть «красных» скаут-мастеров и комсомольскую структуру, в течение 1920-х годов в Советской России создали громадную пионерскую организацию. Скаутские организации были запрещены. В отличие от своих предшественников, пионерское движение не стремилось отстраниться от политики, но, напротив, воспитывало именно «юных ленинцев», верных коммунистическим идеалам.
При росте влияния коммунистических идей на новое поколение ребенок или подросток часто воспринимался как союзник или опора новой власти, как более совершенный человек. В эпоху 1920-х годов постоянно звучала мысль о том, что разделяющий коммунистические идеалы ребенок должен помогать понять идеи новой власти окружающим его взрослым. Прежде всего — родителям. Так, Луначарский в 1925 году заявлял: «Нужно, чтобы пионер прямо признал, что он не моложе своей семьи, а он старше на те 25–50 лет… на которые более зрелой является его культура».
А в 10-м номере журнала «Пионер» за 1924 год вышла статья с характерным названием «Как работать в семье?». В обязанности сознательного пионера должно было входить:
«Отучить от битья ребят разгневанным отцом или матерью… Толкать родных к выписке газет… Вести агитацию в семье за поддержку компании „Золотой заем“, МОПР, Доброхим… Наконец: создать дома красный уголок».
Семья долгое время не представлялась ценностью в условиях «ковки нового человека». Скорее наоборот: многим большевикам она виделась препятствием, которое мешало продуктивному развитию детей. Наиболее радикальные коммунисты даже говорили о ее скором отмирании. Яков Бранденбургский, например, замечал: «Семья, конечно, исчезнет и будет заменена государственной организацией общественного воспитания и социального обеспечения».
Характерно, что в художественных текстах этого времени встречается сюжет, в котором герой-ребенок покидает семью и обретает в итоге счастье в государственном советском приюте или в сообществе идеологически правильных ровесников. Например, в рассказе начинающего писателя Миши Голдберга «Ленинский значок» отец главного героя Гришки забирает его из пионерского клуба и избивает, запрещая иметь дело с пионерами. В итоге Гришка уезжает в Москву, на Красную площадь, где его забирают в милицию и отправляют в детский дом. Там он становится пионером, надевает галстук и прикалывает себе значок с изображением Ленина.
Не менее показателен сюжет рассказа Георгия Никифорова «Савоськина жизнь». Мальчик Савоська вступает в конфликт с собственными бабушкой и матерью. Первая не пускает его в пионерский лагерь и придерживается религиозных воззрений. Через некоторое время отец-рабочий отправляет сына-подростка к своей матери в деревню. Но вторая Савоськина бабушка оказывается тяжело больной и вскоре умирает. Разумеется, Савоська отказывается позвать священника для похорон бабушки. Через некоторое время он самостоятельно налаживает хозяйство и создает «Коммунальную мастерскую-школу столярного мастерства крестьянских и рабочих подростков». Затем Савоське приходит письмо от отца, в котором тот велит ему возвращаться в город. Но мальчик отказывается возвращаться, сообщив отцу, что «не желает» приехать, и поясняет: «Потому как привожу сознательность масс на местах, организую всех ребят в боевой авангард».
При этом на практике приоритет семейного воспитания над воспитанием в государственных детских учреждениях постепенно начал восстанавливаться. Уже в 1926 году был возвращен отмененный до этого институт усыновления. Впрочем, критика семьи как среды воспитания сохранялась и позднее. Даже в 1931 году на IX съезде комсомола с одобрением звучали слова о том, что комсомольцы «разрушают фетиш семьи». Но все же совсем скоро речь пойдет об образцовой советской семье.
В целом те методы по созданию нового человека, которые большевики пытались использовать в 1920-е годы, существенно изменились уже к середине 1930-х. На смену экспериментам в сфере школьного образования пришла довольно консервативная система обучения. Эксперименты в сфере искусства сменились господством соцреализма. Педология, стремящаяся использовать разные области знания для поиска наиболее продуктивных форм воспитания, была запрещена. Первоначально отделенная от школы пионерская организация была прикреплена к учебным заведениям.
Но идея воспитания нового человека не исчезла из Советской страны совсем. Еще в 1922 году педагог Павел Блонский писал, что «наряду с растениеводством и животноводством должна существовать однородная с ними наука — человеководство». В некотором смысле новая эпоха, эпоха 1930-х годов, продолжала линию на создание «человеководства». Окончательно стало понятно, кто мог бы претендовать на роль главного человековода Советской страны, — ее вождь Иосиф Сталин. Именно он в 1934 году подчеркнул, что «людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево».
Многие советские дети и подростки и теперь мечтали стать «новыми людьми», достойными коммунистического будущего. Они прилагали к этому немалые усилия (прилежно учась, занимаясь физкультурой и проходя военную подготовку, занимаясь пионерским активизмом). Другое дело, что сам «требующийся», по мнению руководства страны, «новый человек» изменился: теперь он больше нуждался в дисциплинированности и послушании властям.
И все-таки между попыткой сформировать определенный тип человека в 1920-е и в 1930-егоды было много общего. Обе они были попытками создать массового коллективиста, который должен был послужить большому общему делу. В 1920-е, как и в 1930-е, очень много говорили о дисциплине — только акцент больше ставили на «дисциплинирующем начале» коллектива. Наконец, главными арбитрами воспитательной политики и в 1920-е, и в 1930-е годы виделась партия и ее лидеры. Вся Советская страна изначально была в определенном смысле большим воспитательным проектом, где власть выступала в роли педагога, а жители страны являлись воспитуемыми. Собственно, дети и молодые люди были не единственными объектами воспитания в стране: в значительной степени ими являлись и взрослые.
В 1928 году на очередном съезде комсомола перед делегатами выступил Иосиф Сталин. Советский вождь закончил свою речь призывами к молодежи овладеть наукой и «учиться упорнейшим образом». В отличие от Ленина за восемь лет до него, Сталин не обмолвился ни словом о временных перспективах наступления коммунизма. Медленно, но верно наступала эпоха, в которой проектируемый партией новый человек призван был стать уже не столько потенциальным творцом грядущего коммунизма, сколько образцовым жителем страны победившего социализма.