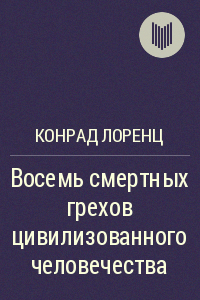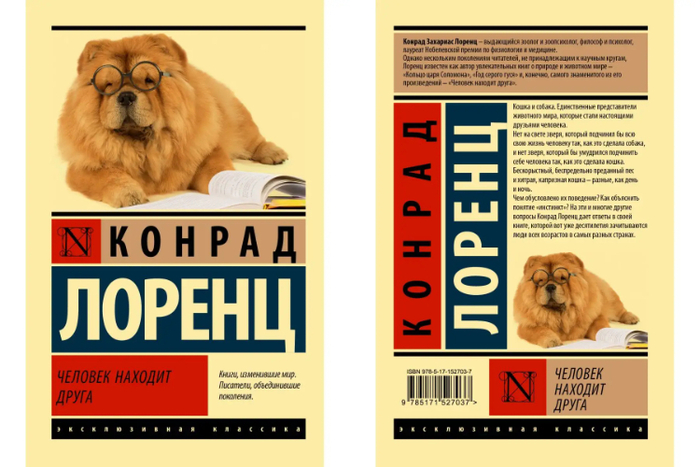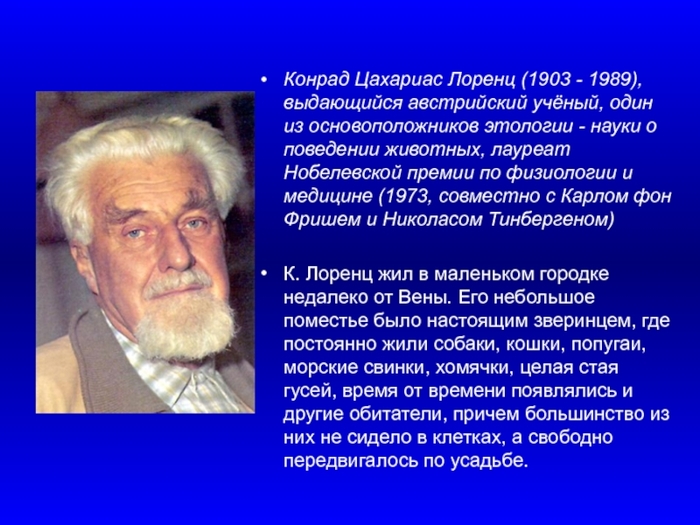Почему же внутри одного вида животные находятся в борьбе – ссорятся, дерутся, а то и вовсе убивают друг друга? Вроде бы нелогично.
Борьба между животными различных видов есть общая черта: здесь вполне ясно, какую пользу для сохранения вида получает или «должен» получить каждый из участников борьбы. Но и внутривидовая агрессия — агрессия в узком и собственном смысле этого слова — тоже служит сохранению вида. В ее отношении тоже можно и нужно задать дарвиновский вопрос «для чего?». Многим это покажется не столь уж очевидным; а люди, свыкшиеся с идеями классического психоанализа, могут усмотреть в таком вопросе злонамеренную попытку апологии жизнеразрушающего начала, или попросту зла. Обычному цивилизованному человеку случается увидеть подлинную агрессию лишь тогда, когда сцепятся его сограждане или его домашние животные; разумеется, он видит лишь дурные последствия таких раздоров. Здесь можно увидеть поистине устрашающий ряд постепенных переходов — от петухов, подравшихся на помойке, к грызущимся собакам, к тузящим друг друга мальчишкам, потом к парням, разбивающим о головы друг друга пивные кружки, потом к отчасти уже политически окрашенным трактирным побоищам и, наконец, войнам и атомным бомбам.
Как подлинные дарвинисты, мы прежде всего зададимся вопросом о видосохраняющей функции, которую выполняет борьба между собратьями по виду в естественных или, лучше сказать, в предкультурных условиях, и о селекционном давлении этой функции, благодаря которому она так сильно развилась у очень многих высших животных.
Как известно, вопрос о пользе борьбы для сохранения вида поставил уже сам Дарвин, и он же дал ясный ответ: для вида, для будущего всегда выгодно, чтобы область обитания или самку завоевал сильнейший из двух соперников. Как часто случается, эта вчерашняя истина хотя и не стала сегодня заблуждением, но оказалась лишь частным случаем; в последнее время экологи обнаружили другую функцию агрессии, еще более существенную для сохранения вида.
Это наука о многосторонних взаимосвязях организма с его естественным жизненным пространством, в котором он «у себя дома»; а в этом пространстве, разумеется, необходимо считаться и с другими животными и растениями, обитающими там же. Если специальные интересы социальной организации не требуют тесной совместной жизни, то по вполне понятным причинам наиболее благоприятным будет по возможности равномерное распределение особей вида в используемом жизненном пространстве. В терминах человеческой деловой жизни: если в какой-нибудь местности хотят обосноваться несколько врачей, или торговцев, или механиков по ремонту велосипедов, то представители любой из этих профессий поступят лучше всего, разместившись как можно дальше друг от друга.
Опасность, что в какой-то части биотопа, имеющегося в распоряжении вида, его избыточно плотное население исчерпает все ресурсы питания и будет страдать от голода, в то время как другая часть останется неиспользованной, — эта опасность проще всего устраняется тем, что животные одного и того же вида отталкиваются друг от друга. Именно в этом, вкратце, состоит важнейшая видосохраняющая функция внутривидовой агрессии.
Не следует представлять себе участок (территории животного) как землевладение, точно очерченное географическими границами и как бы внесенное в земельный кадастр. Напротив, он определяется лишь тем обстоятельством, что готовность данного животного к борьбе бывает наивысшей в наиболее знакомом ему месте, а именно в центре его участка. Иными словами, пороговое значение вызывающего агрессивную реакцию раздражения ниже всего там, где животное «чувствует себя увереннее всего», т.е. где его агрессия меньше всего подавлена стремлением к бегству. С удалением от этой «штаб-квартиры» боеготовность убывает по мере того, как обстановка становится все более чужой и внушающей страх. Кривая этого убывания имеет поэтому разную крутизну в разных направлениях; у рыб центр области обитания почти всегда находится на дне, и их агрессивность особенно резко убывает по вертикали — очевидно, потому, что наибольшие опасности грозят рыбе именно сверху.
Таким образом, территория, которая, как кажется, принадлежит животному, — это лишь функция различий степени его агрессивности в разных местах, обусловленных локальными факторами, подавляющими эту агрессивность. С приближением к центру области обитания агрессивность возрастает в геометрической прогрессии. Это возрастание настолько велико, что компенсирует все различия в величине и силе, какие могут встретиться у взрослых половозрелых особей одного и того же вида. Поэтому если у территориальных животных — скажем, у горихвосток, перед домом или у колюшек в аквариуме — известны центральные точки участков двух подравшихся владельцев участков, то, исходя из места их схватки, можно наверняка предсказать ее исход: победит тот, кто в данный момент находится ближе к своему дому.
Когда же побежденный обращается в бегство, инерция реакций обоих животных приводит к явлению, происходящему во всех саморегулирующихся системах с торможением, а именно к колебаниям. У преследуемого по мере приближения к его штаб-квартире вновь появляется мужество, а преследователь, проникнув на вражескую территорию, свое мужество теряет. В конце концов, беглец вдруг поворачивается и столь же внезапно, сколь энергично нападает на недавнего победителя, которого теперь, как можно было предвидеть, бьет и прогоняет. Все это повторяется еще несколько раз, пока, в конце концов, колебания не затухнут и бойцы не остановятся у вполне определенной точки равновесия, где они лишь угрожают друг другу, но не нападают.
Мы можем считать достоверным, что равномерное распределение в пространстве животных одного и того же вида является важнейшей функцией внутривидовой агрессии. Но это отнюдь не единственная ее функция! Уже Чарлз Дарвин верно заметил, что половой отбор — выбор наилучших, наиболее сильных животных для продолжения рода — в значительной степени определяется борьбой соперничающих животных, особенно самцов.
Важнейшая функция поединка состоит в выборе боевого защитника семьи, что предполагает еще одну функцию внутривидовой агрессии — охрану потомства. Эта функция настолько очевидна, что говорить о ней просто нет нужды. Но чтобы устранить любые сомнения, достаточно сослаться на тот факт, что у многих животных, у которых лишь один пол заботится о потомстве, по-настоящему агрессивны по отношению к собратьям по виду представители именно этого пола, или, по меньшей мере, их агрессивность несравненно сильнее. У колюшки это самцы, у многих мелких цихлид — самки. У кур и уток только самки заботятся о потомстве, и они гораздо неуживчивее самцов, если, конечно, не иметь в виду поединки. Нечто подобное должно быть и у человека.
Принципом организации, без которого, по-видимому, не может развиться упорядоченная совместная жизнь высших животных, является так называемый ранговый порядок.
Он состоит попросту в том, что каждый из совместно живущих индивидов знает, кто сильнее его и кто слабее, так что каждый может без борьбы отступить перед более сильным и может ожидать, что более слабый, в свою очередь, отступит перед ним, когда бы они ни попались друг другу на пути.
Напряженные отношения, которые возникают внутри сообщества благодаря инстинкту агрессии и вырабатываемому им ранговому порядку, могут придавать сообществу во многих отношениях полезную структуру и прочность. У галок, да и у многих других птиц с высоким уровнем общественной организации, ранговый порядок непосредственно приводит к защите слабых. Так как каждый индивид постоянно стремится повысить свой ранг, то между непосредственно выше- и нижестоящими всегда возникает особенно сильная напряженность и даже враждебность; и обратно, эта враждебность тем меньше, чем дальше друг от друга ранги двух животных. А поскольку галки высокого ранга, особенно самцы, непременно вмешиваются в любую ссору между двумя нижестоящими, эти ступенчатые различия в социальной напряженности имеют благоприятное следствие: галка высокого ранга всегда вступает в борьбу на стороне слабейшего, словно по рыцарскому принципу «Место сильного — на стороне слабого!».
Если оценить все это, вместе взятое, то внутривидовая агрессия вовсе не покажется нам ни дьяволом, ни уничтожающим началом, ни даже «частью силы той, что без числа творит добро, всегда желая зла»: она вполне однозначно окажется частью организации всех живых существ, сохраняющей их систему функционирования и самую их жизнь. Как и все на свете, она может допустить ошибку и при этом уничтожить жизнь. Но в великом становлении органического мира эта сила предназначена к добру.
Источник (telegram канал): Naked Monkey