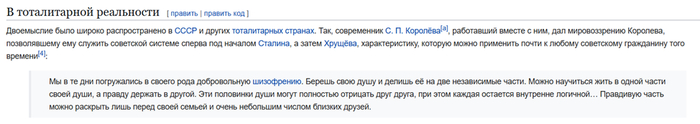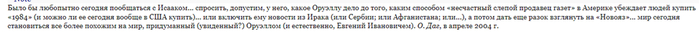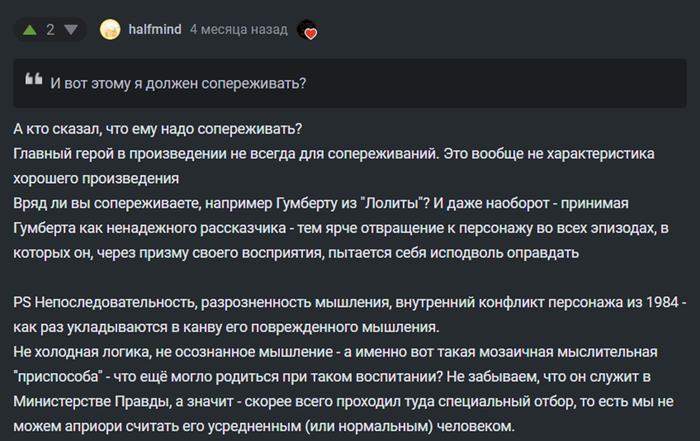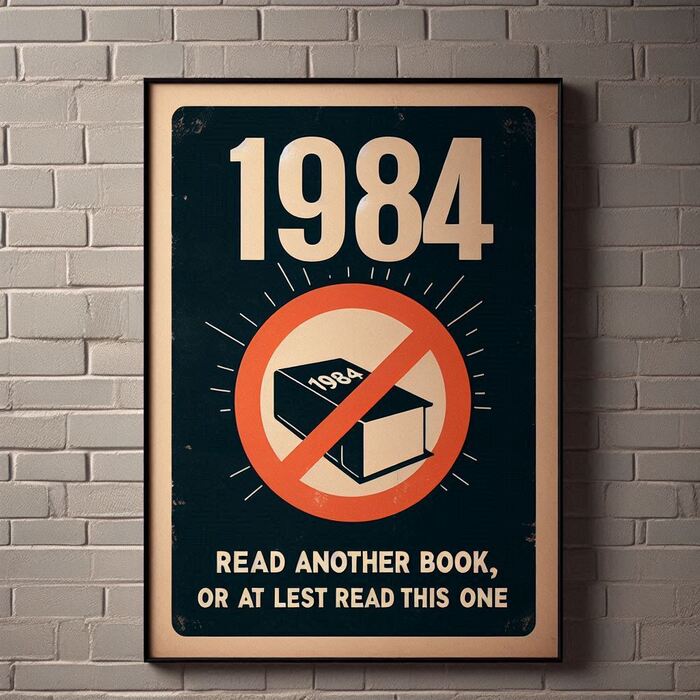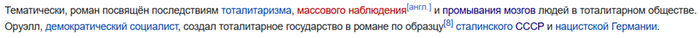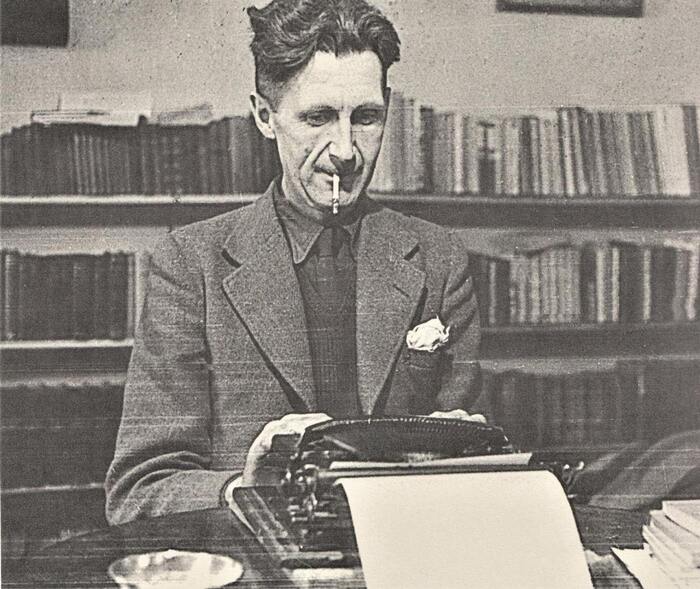Антиутопия мертва: «1984» — прочитайте уже другую книгу, или хотя бы прочитайте эту. Часть 3: шизофрения
Антиутопия мертва: "1984" - прочитайте уже другую книгу, или хотя бы прочитайте эту. Часть 1: Начало
Следующую группу аспектов сложно назвать иначе как Шизофрения.
Тут собраны вещи, которые можно разбить той самой цитатой из «Обитаемого острова»: «Башни башнями, а убеждать голодного, что он сытый, долго не получится».
Министерство мира ответственно за войну, Министерство любви – за пытки. Окей, пропаганда, да и вообще это официальные названия. Если кто не знает, долгое время в азиатских странах, таких как Китай и Япония, министерства юстиции называлось – Министерство наказания. И ничего, нормально. Это мы привыкли к каким-то формулировкам, но это не значит, что не может быть других.
Три лозунга: «Война — это мир», «Свобода — это рабство», «Невежество — сила». Ну, помимо очевидного противопоставления «Знание — сила», никакой нормальный человек не будет это воспринимать иначе, чем дурной лозунг.
Всюду разруха. Вообще везде. Ноль попыток как-то благоустроить хотя бы свой ближайший быт. Верим. Государство настолько нежизнеспособно, что половина страны без обуви... И всем норм. Ну как же, по бумагам-то обувь есть. Значит, все верят, что они обуты. Как это работает?
Заразительная ненависть толпы противоречит возможности её направлять. Т. е. или ты часть толпы, или нет. Тут же герой становится частью толпы, но направляет ненависть против самой толпы.
Прямые призывы к свержению власти не страшнее, чем завести дневник. Верим. И да, за это смертная казнь или 25 лет каторги, хотя главный герой всю книгу говорит, что законов нет (в тоталитарном-то государстве. Ага). Но он точно знает наказание. Откуда? Законов же нет!
Никто не помнит, что четыре года назад враг был другой. Эммм, а как? Ну ладно, об этом, может быть, не принято говорить, может быть, срок за это (хотя законов нет), как мыслепреступление рассматривать (хотя об этом позже), но тут же говорят, что про это не помнят. И или у партии есть башни из «Обитаемого острова», а все люди мира на генетическом уровне подвержены белому излучению, или все всё понимают (кстати, я напомню, что за всю книгу мы не примеряем ни в чью шкуру, кроме шкуры Уинстона), но благоразумно шифруются, или люди привыкли к бесконечной войне и им уже плевать, кто там с кем воюет, или все персонажи шизофреники, и автор опять перегнул с гиперболой своей мысли. Мгновенная перемена врага на недели ненависти — отдельный смех.
(И да, это ни разу не напоминает отношения между государствами, в том числе весьма либеральными, после Первой и Второй мировой войны. Особенно после Второй. Когда вчерашние союзники объявляются врагами и в отношении них открывается настоящая охота на ведьм, а вчерашний враг теперь друг и союзник, которому ты помогаешь финансово и граждане которого, в том числе и идейные противники, ответственные за преступления, трудятся над твоей ракетной программой. Еще раз, антиутопия — это зеркало настоящего. Вопрос в том, насколько кривое.)
Главный герой — ярый враг старшего брата и занят одной из наиболее важных для него отраслей — фальсификацией (как и Оруэлл — главный враг тоталитаризма, сдающий людей спецслужбам за то, что они посчитали неправильным печатать его труд, «изобличающий нынешнего союзника»… Простите, не сдержался). При этом для человека, который занимается подменой прошлого, главное доказательство этих подмен — единичный случай ложных показаний против себя со стороны бывших лидеров революции. А не ЕГО РАБОТА. И он говорит, что тем обрывком газеты он бы победил партию, а то, что у него тысячи таких газет — с большими или меньшими подлогами — неважно.
Домашний бунтарь в главной роли считает, что если откуда-то и стоит ждать изменений, то это из среды пролов (учитывая, что за ними намного меньше контроля, что они, как было показано в сцене в кинотеатре, более человечны — разумный вывод), но ждёт, пока пролы осознают себя, вместо того чтобы организовывать их и как-то двигать их к этому осознанию себя как силы.
Поля пашут конным плугом. И через несколько страниц оказывается, что даже сегодня, в период упадка, обыкновенный человек живёт лучше, чем несколько веков назад. С чего бы.
Понятно, что это манифест антитоталитаризма, но всё же непонятно, зачем в этом мире вообще существуют такие запреты и правила — выглядит как тоталитаризм ради тоталитаризма. А оно так и есть, и больше всего это проявляется в том, что следует выделить в отдельную подтему.
Мыслепреступление - Ой... Это вообще сказка. Преступление, заключающееся в мышлении, не одобренном правящей партией, неправильное, с точки зрения идеологии правящей партии, выражение лица также является разновидностью мыслепреступления.
Во-первых, не совсем понятно, что это в контексте отсутствия законов (я не устану цепляться за эту фразу).
Во-вторых, давайте подумаем, как это, в первую очередь, мысли, можно фиксировать? Правильно, по речам. Для этого везде и стоят камеры, прослушка и прочая дрянь – чтобы следить за тем, что говорят, потому что залезть в голову невозможно.
В-третьих, поищем ближайшие аналоги к этому явлению в реальной жизни. Они есть – это приготовления к совершению преступления в форме приискания сообщников и подстрекательство к преступлению, что является так-то уголовно наказуемым деянием, а также все статьи уголовного кодекса про призывы и пропаганду чего-либо запрещённого (да, если кто-то забыл – слова бывают наказуемы, и это норма). Т.е., внезапно, в большинстве стран мира, если вы будете призывать к тому, чтобы, например, часть страны отделилась – государство вас по головке не погладит (попробуйте сказать в США, что Техасу нужно отделиться, в Великобритании, что Ирландия должна быть независимой, в Китае, что Тайвань – это страна… Да и у нас тоже есть такие, странные, на мой взгляд, призывы), или в воюющей стране (любой, к несчастью, выбрать в последнее время есть из чего) призывать к капитуляции или, ещё хуже, к пособничеству враждебной стране.
Таким образом, мыслепреступления – это не что-то новое и неожиданное, из-за чего возникает вопрос, а чему все так восхищаются и растягивают этот «термин». Единственный ответ, который приходит мне в голову – это его звучность и сопряжённость с весьма успешными манипуляциями в тексте (Оруэлл объединяет все вышеуказанные категории в одну, утрирует их до безумства (выражение лица) и придаёт им исключительно негативную коннотацию).
Но более важно тут другое. Почему-то многие (в частности, доморощенные бунтари), и, судя по его тексту, внезапно, Оруэлл, предполагают, что любое государство, любое государство не должно себя защищать, в том числе от внутренних угроз. Оно не должно бороться с сепаратизмом, с диверсиями и прочими «радостями», вытекающими из того, что подразумевается под «мыслепреступлениями» у Оруэлла (а Уинстон согласился на гораздо более страшные вещи).
Почему меня удивляет позиция Оруэлла? При том, что я отношусь к нему негативно, я не могу отрицать, что он был в жерле революционных процессов, и как никто другой должен был бы понимать, что государство может, будет (а вообще и должно) себя защищать. И что если вы начинаете противопоставлять себя государству (в любой форме, от вооружённой борьбы до подрыва его авторитета несанкционированными митингами с фонариками), вы потом не должны удивляться, что государство начнёт вас давить.
А мысли Уолтера в современном контексте (да и в контексте времени Оруэлла) звучат в духе соевого домашнего революционера и бунтовщика, который возмущается тому, что он призывает к свержению режима, а режим его за это хочет уничтожить.
Есть ещё один уровень – пролы. Как известно, пролы – ниже подозрений. Да, в книге говорится, что часть талантливых пролов уничтожают, а часть принимают в партию (об этом в отдельном блоке), но общее правило такое, что пролам можно намного больше, что Полиция Мысли (кстати, в контексте того, что «мыслепреступления» – это не то, чтобы что-то неожиданное и уникально, стоит сказать, что Полиция Мыслей – это Тайная Полиция, она же охранка, она же ещё много кто… обычное явление для государства) не проверяла пролов.
Лишь бы трудились и размножались – а там пусть делают что хотят… Управлять ими несложно. Среди них всегда вращаются агенты полиции мыслей – выявляют и устраняют тех, кто мог бы стать опасным; но приобщить их к партийной идеологии не стремятся. Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм – чтобы взывать к нему, когда идет речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и овладевает ими недовольство – такое тоже бывало, – это недовольство ни к чему не ведет, ибо из-за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких конкретных неприятностей. Большие беды неизменно ускользали от их внимания.
Во всех моральных вопросах им позволено следовать обычаям предков… Пролы ниже подозрений. Как гласит партийный лозунг: «Пролы и животные свободны».
А это означает, что для подавляющего количества населения (о структуре населения тоже будет отдельный блок) мыслепреступления не актуальны. Они актуальны для партийных (считайте, что это госслужащий или военный, как вы думаете, есть ли с них больший спрос?) или для пролов, которые свои мысли не на кухне под крепкий градус рассказывают, а распространяют с целью свержения режима, за что и получают по голове. А выглядит это так ужасно из-за гиперболизации, того, что нам представлен только взгляд Уинстона, и того, что Оруэлл делает упор на эмоции.
Двоемыслие. Чем кончать разговор про шизофренические элементы, как не шизофренией в чистом виде. Двоемыслие — состояние психики, при котором субъект одновременно разделяет два противоположных убеждения, часто противоречащих его собственным воспоминаниям или ощущению реальности. При этом оно включает в себя двойные стандарты и возможность, не придерживаясь истинных положений (так как они противоречат партийным), использовать их для верного исполнения возложенных задач.
Давайте опустим гуляющую по интернету идею о том, что это такой укол в сторону диалектики с её «единством и борьбой противоположностей», я не верю, что Оруэлл был настолько глуп, чтобы выдавать одно за другое и как-то это связывать (потому как связать это можно, только не понимая смысла одного и другого). Давайте лучше обратимся к моей любимой Википедии, а именно:
Я нашёл эту книгу. Я не нашёл в ней этой цитаты. Я не нашёл в ней упоминания Гительзона, которому приписывают эту цитату (не в этой статье на Википедии, тут вообще не говорится, кто это якобы сказал!). Я не нашёл нигде ссылку на то, где, когда и как Гительзон говорил это. ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ЦИТАТЫ.
Но давайте предположим, что всё это не пи… враньё, и порассуждаем, является ли это чем-то необычным и, главное, является ли это двоемыслием.
Нет и нет. Ситуаций, когда человек в различных масштабах и по различным причинам лукавит и лицемерит – куча. И даже то, что описано в этой «цитате» – не является двоемыслием, так как человек не верит в ложную, по его мнению, концепцию. А двоемыслящие по Оруэллу – именно что верят в неё. Это возможно, только если у тебя беды с башкой… или... Вы ведь помните, что мы не можем верить Уинстону – ему верить всё равно что себя не уважать. И помните, что перемена врага в один момент выглядит как цирк. Так может смысл в том, что ВСЕ притворяются и шифруются, чтобы более-менее спокойно жить? В том, что все конформисты? На мой взгляд, хороший писатель сделал бы именно так – что бы герой чувствовал себя одиноким, единственным, кто всё понимает, но на деле все бы всё понимали, просто, как и он, не спешат отдавать свою жизнь (более того – это было бы одной из предпосылок становления такого мира: люди своим конформизмом и страхом вовремя ему не противились, а теперь боятся ему противостоять (у Оруэлла это работает в том же ключе, но на какой-то магии с верой и не верой)). Но у Оруэлла – как написано, так и работает – они верят!
Помните, мы в одной из цитат упоминали, что в Британии популярны солипсистские идеи? Давайте посмотрим, что в этом видит Бёрджесс:
Нет сомнения, что Океанией правит олигархия утонченных интеллектуалов. Она культивирует слегка солипсистскую философию, она знает, как манипулировать языком и памятью и посредством их природой воспринимаемой реальности, и она всецело сознает, по каким причинам жаждет власти...
Солипсизм – термин, происходящий от латинских слов «solus» и «ipse» (буквально его составные части означают «одинокое «я» или «я» само по себе»). Солипсизм постулирует, что реальность существует только в рамках «я» или, более логично, что познанию и верификации поддается только «я». Следовательно, нельзя предполагать, будто что-то во внешнем мире имеет независимое бытие. Солипсизм идет дальше простого идеализма, который постулирует, что разум реален, а материя не более чем идеи, но не обязательно отвергает существование многих разумов и в конечном итоге постулирует наличие всеобъемлющего божественного разума. Солипсизм учит, что невозможно доказать бытие разумов иных, нежели solus ipse. Однако он все-таки допускает временную или частичную прерывистость индивидуального разума, чтобы отрицать логику, признавать противоречие или непоследовательность. Если одиночный разум реален, его воспоминания не могут быть иллюзорными. Прошлое не зыбко и не приспособляемо: в рамках разума оно обладает истинным бытием и не может быть изменено настоящим. Математические формулы неизменны, то есть 2 + 2 всегда равно 4. Коллективному солипсизму ангсоца до этого нет дела. 2 + 2 иногда равны 4, но с той же вероятностью могут дать 3 или 5. Звучит безумно. Но партия учит, что безумие – атрибут индивидуального разума, который отказывается слиться с коллективным и принять его точку зрения на реальность. Уинстон Смит цепляется за простую арифметику как за истину, неподвластную даже партии, но часть его процесса реабилитации заключается в том, чтобы учиться убеждать себя (а не просто механически принимать), что 2 + 2 равно тому, что говорит партия.
Чувства – лишь инструменты на службе «я», и небезупречны. Существование обмана чувств никто не станет отрицать. Как мы отличаем иллюзию от реальности? Неразумно полагаться исключительно на органы. Только «я» – эта нематериальная, верифицируемая сущность – способна установить, что реально, а что нет. Чтобы наделить «я» этим единственным атрибутом, который требуется, чтобы оно стало конечной реальностью – фиксированной, неизменной, бессмертной, богоподобной, – необходимо только сделать это «я» коллективным.
Чтобы коллектив функционировал как единый разум, все его члены, или ячейки, должны быть едины относительно того, что они видят и помнят. Для того чтобы привести индивидуальные наблюдения и память к тому, что, согласно постановлению партии, в каждый данный момент является истиной, используется методика, получившая название двоемыслие. Реальность приравнивается к актуальному моменту. Прошлое не определяет настоящее, это настоящее модифицирует прошлое. Все не так чудовищно, как кажется. Память коллективного разума должна содержаться в записях архивов, а в природе архивов – чтобы их меняли. Сделаем еще шаг: прошлого не существует, а потому мы вольны его создавать. Когда одно созданное прошлое вступает в конфликт с другим, в дело вступает двоемыслие…
«Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоположных убеждений…»
При этом Бёрджесс видит в этом проявление естественных процессов мышления:
Двоемыслие не должно вызывать ни смеха, ни содрогания как пугающая фантазия автора. Оруэлл сознавал, что практически формулирует мыслительный процесс, который человечество всегда находило «абсолютно необходимым»
Рождение – начало смерти. Человек – двойственное существо, в котором плоть противостоит духу, а инстинкт – устремлениям. Оруэлл очень четко сознает собственную двойственность
Едва ли найдется хотя бы одно человеческое переживание или ощущение, которое не было бы амбивалентным. Философы ангсоца практически говорят: мы признаем, что человеческая жизнь отчасти вопрос жонглирования противоположностями. Мы хотим создать новую человеческую сущность, коллективную, которая функционировала бы как единый организм. Единства мысли можно достичь, выковав сознательную технику устранения противоречий…
Проблема в том, что двоемыслие позволяет ликвидировать осознание противоречия, не ликвидировав его причину и его самого. Из-за чего речь и мысли любого персонажа звучат как речь психически больного:
Родился на улице Герцена, в гастрономе № 22. Известный экономист, по призванию своему — библиотекарь. В народе — колхозник. В магазине — продавец. В экономике, так сказать, необходим. Это, так сказать, система… эээ… в составе 120 единиц. Фотографируете Мурманский полуостров и получаете te-le-fun-ken. И бухгалтер работает по другой линии — по линии библиотекаря. Потому что не воздух будет, академик будет! Ну вот можно сфотографировать Мурманский полуостров. Можно стать воздушным асом. Можно стать воздушной планетой. И будешь уверен, что эту планету примут по учебнику. Значит, на пользу физики пойдет одна планета. Величина, оторванная в область дипломатии, дает свои колебания на всю дипломатию. А Илья Муромец дает колебания только на семью на свою. Спичка в библиотеке работает. В кинохронику ходят и зажигают в кинохронике большой лист. В библиотеке маленький лист разжигают. Огонь… эээ… будет вырабатываться гораздо легче, чем учебник крепкий. А крепкий учебник будет весомее, чем гастроном на улице Герцена. А на улице Герцена будет расщепленный учебник. Тогда учебник будет проходить через улицу Герцена, через гастроном № 22, и замещаться там по формуле экономического единства. Вот в магазине 22 она может расщепиться, экономика! На экономистов, на диспетчеров, на продавцов, на культуру торговли… Так что, в эту сторону двинется вся экономика. Библиотека двинется в сторону 120 единиц, которые будут… эээ… предмет укладывать на предмет. 120 единиц — предмет физика. Электрическая лампочка горит от 120 кирпичей, потому что структура, так сказать, похожа у неё на кирпич. Илья Муромец работает на стадионе «Динамо». Илья Муромец работает у себя дома. Вот конкретная дипломатия! «Открытая дипломатия» — то же самое. Ну, берем телевизор, вставляем в Мурманский полуостров, накручиваем там… эээ… все время черный хлеб… Так что же, будет Муромец, что ли, вырастать? Илья Муромец, что ли, будет вырастать из этого?
Что интересного, двоемыслие — не только опора партии, но и способ обойти её запреты, и Уолтер и Джулия — этому пример. Будет ли эта тема раскрыта в романе? Конечно же нет.
Перейдём к тесно связанному с двоемыслием явлению — новоязу. Опять обратимся к «1985»:
Можно считать, будто ангсоц слишком уверен в собственной силе, чтобы нисходить до нечестной игры. Он не любит словесных туманностей, он настаивает на крайней ясности выражений как в письменной, так и в устной речи. Для этого он создал особую разновидность языка, называемую новоязом. Для новояза характерны грамматическая правильность, простота синтаксиса и словарный запас, лишенный ненужных синонимов и сбивающих с толку нюансов. Сильные глаголы исчезли, и окончания в глагольных формах всегда одинаковы. Сравнительные степени прилагательных всегда строятся по принципу: «правильно, правильнее, самое правильное». Во множественном числе у всех существительных одно окончание. Эта рационализация рано или поздно, вероятно, наступит сама по себе, без вмешательства государства, но ангсоц, присвоивший себе тотальный контроль над любой человеческой деятельностью, был так добр, что ускорил процесс. Ограничение словарного запаса – дар божий или государственный: слишком уж много слов в традиционном языке. «Плохой» – излишнее слово, когда у нас уже есть «нехороший», а усилительные можно создать путем прибавления «плюс» или для большего усиления «плюс плюсовый». «Плюс плюсовый нехороший» – довольно эффективный способ передать «ужасно или крайне дурной», а «плюс плюсовый несветлый» вполне отражает, что такое, в сущности, «кромешная тьма».
Но главная цель филологов ангсоца не обкорнать язык до подобающей простоты, а настолько полно приспособить его для выражения ортодоксальной доктрины государства, чтобы в речь, будь то письменная или устная, не могла бы проникнуть даже тень ереси. «Свободный» еще существует, равно как и «несвободный» или «свободность», но само понятие может быть лишь относительным, как в «свободный от боли». «Свободный» в смысле «политически свободный» в новоязе не имеет смысла, поскольку самой такой концепции больше не существует. Текст о политической свободе вроде Декларации независимости невозможно осмысленно перевести на новояз.
В 1984-м мы лишь на первой стадии контроля разума посредством языка. Три главных лозунга государства: «ВОЙНА – ЭТО МИР», «СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО», «НЕЗНАНИЕ – СИЛА». Оруэлл уже сообщил нам, что слово «свобода» не может иметь ни абсолютного философского, ни политического значения, однако как раз такой смысл это слово несет в партийном лозунге. Более того, государство нетипично остроумным образом задействует парадокс: надо понимать, это последний спазм остроумия перед наступлением бесконечной ночи. Нам, и очень кстати, сообщают, что война – нормальное состояние современности, каким являлся в старые времена мир, и что посредством войны с врагом мы лучше всего учимся любить безмятежность своего порабощения.
Самое страшное, что есть в новоязе, — это то, что он имеет смысл, без шуток, за ним есть логика, тем он и ужасен. Он уничтожает оттенки и субъективность, в чем есть смысл для работы, но он не приспособлен для быта и творчества.
Но для поставленной цели — сужение мысли и избавление от мыслепреступлений — он не подходит. Так как даже если для чего-то не будет слова, оно не пропадёт.
Если у вас не будет слова «обида», то она не исчезнет из мира и ваших ощущений, да, вам сложнее будет это выразить, да, у вас не будет для этого слова — ну так придумаете. Так оно и происходит.
Почему же в мире Оруэлла это работает? Потому что этот мир, а вероятно, и сам Оруэлл, живут по принципам упомянутого ранее солипсизма и идеализма — не материальный мир у него формирует идеальный (в том числе и речь), но идеальный, в том числе и язык, формируют реальный.
Вот он, ответ на всю шизофрению истории — мы с вами не понимаем, как это может работать, потому что для нас оно так и не работает. Хотя…
Возвращаясь к теме шизофрении. Оруэлл мог выбрать множество иных, более реальных, но не менее страшных концепций со всё тем же тотальным контролем, переписыванием истории (без шуток, описание опасности переписывания истории — одна из лучших вещей и идей в книге), только направленным в первую очередь на детей, фанатизмом, тем, как взрослые бояться подрастающее поколение, огромным расслоением и страхом самому себе признаться в каких-то мыслях, но не скатываясь в шизофрению.