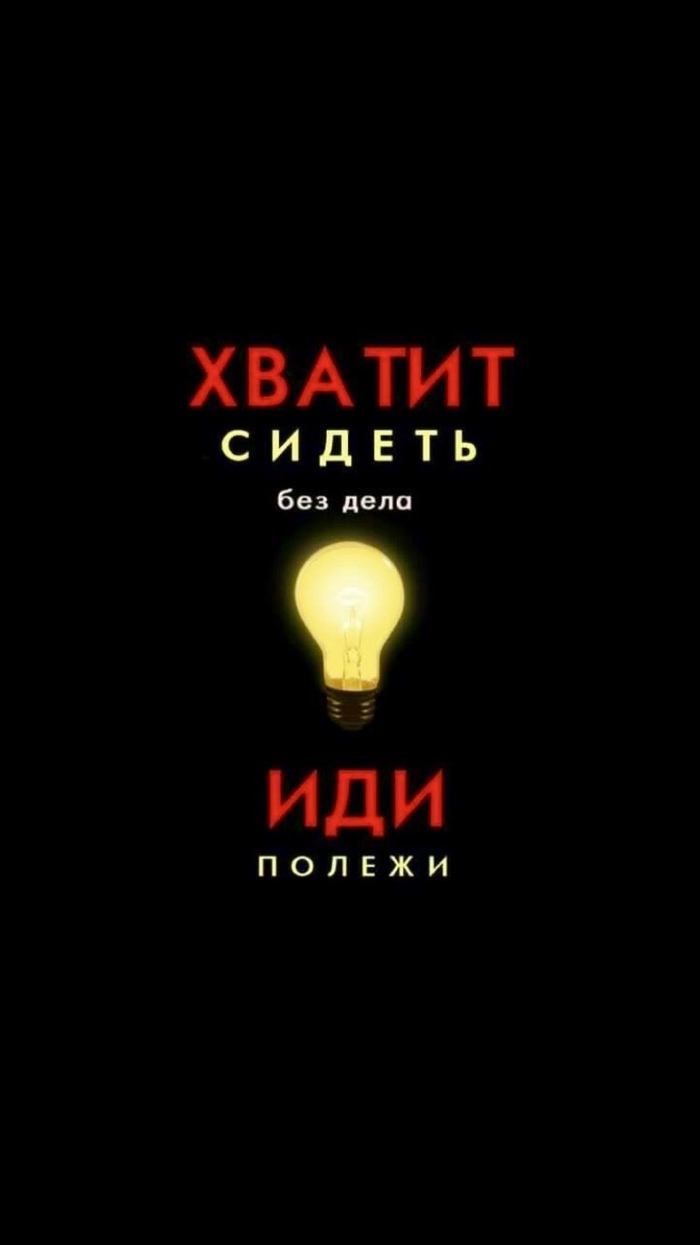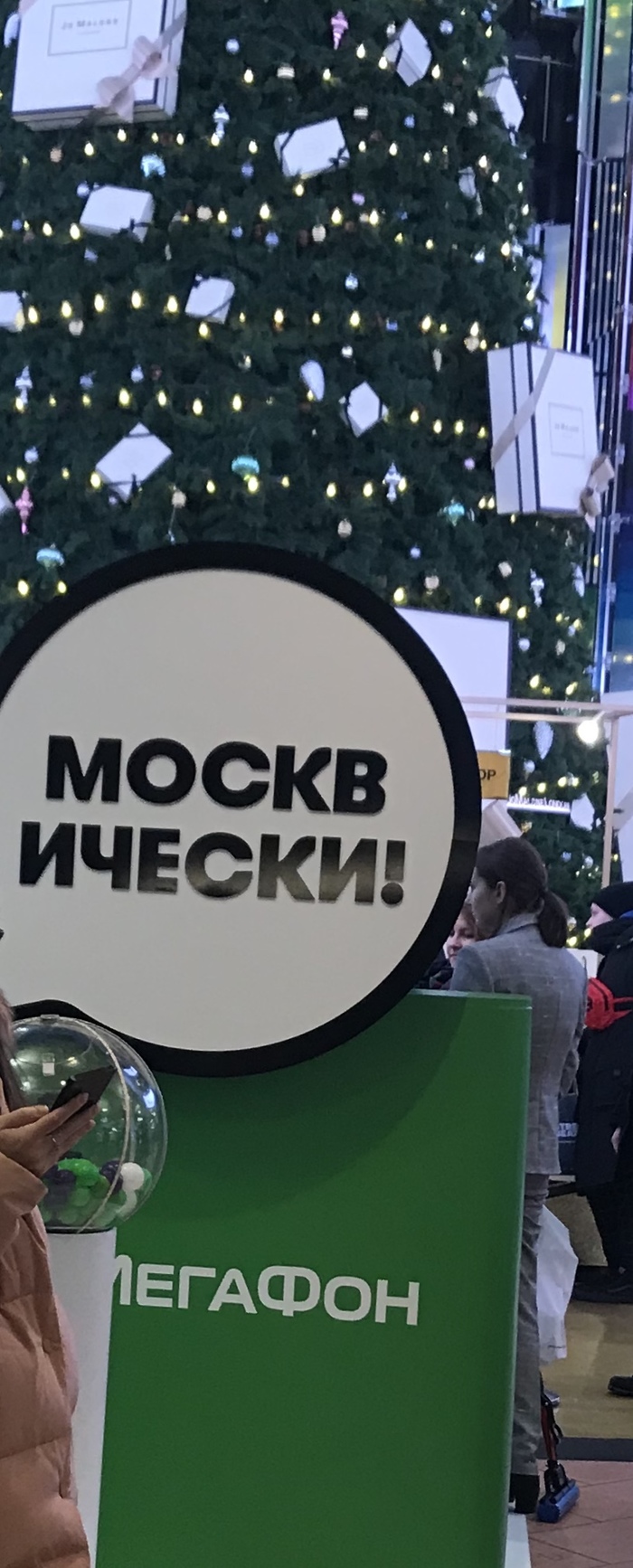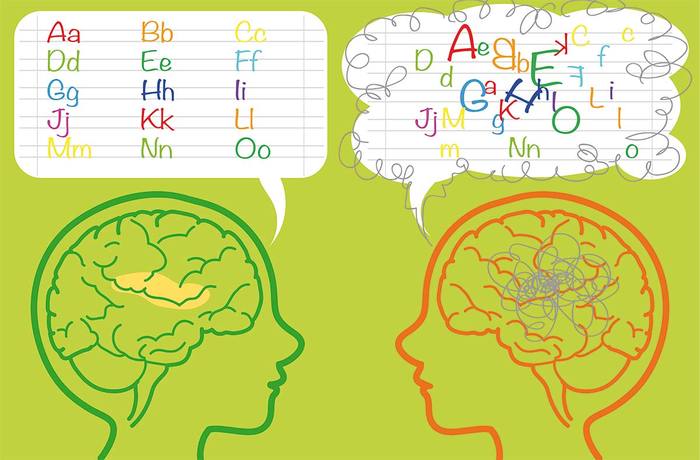Почему всё-таки нельзя заставить близкого бросить пить или пойти к врачу, и лучше вообще отказаться от этой идеи
Мы все умные начитанные люди и знаем, что никого нельзя переделать, заставить измениться против его воли. Но если честно, почти все мы время от времени хотим этого и начинаем строить планы, как бы добиться от близкого желаемых изменений.
Не то, чтобы это норма – совсем не норма. Но у нас созависимая культура. Очень трудно найти модели хороших равноправных отношений. Зато созависимых – хоть отбавляй. Папа алкоголик, а мама пытается регулировать его пьянство и всю остальную жизнь семьи. Учитель говорит классу: «Но это же так интересно! Какие вы нелюбопытные, ленивые», – как будто «интерес» общий на всех, унифицирован, и дети бы могли проявить его, если бы как следует напряглись (идея, что чувства можно «вызывать» сознательным усилием). Врач говорит ребёнку «Ничего это не больно, не придумывай» (идея, что даже про ощущения нашего собственного тела кто-то другой знает лучше нас).
Неудивительно, что взрослые люди то и дело задаются вопросом, как убедить своего партнёра бросить курить, сделать так, чтобы он или она не изменяли, больше зарабатывали или записались к психологу (я же вижу, что ему нужно!). Если всю жизнь вас приучают к идее, что можно контролировать мысли, чувства и поведение других людей, расстаться с этой моделью поведения трудно. Для того, чтобы всё-таки перестроиться, приходится прикладывать большие сознательные усилия. Социум это усилие не поддерживает, скорее противодействует. «А что это у тебя муж такой худой? Ты корми его получше»; «Мама твоя совсем за здоровьем не следит, вот тебе телефон хорошего врача, запиши её».
Размышления о том, почему созависимая модель совсем не хороша, и что ждёт человека, который решил от неё отказаться. На примере отношений с партнёром – при желании вы можете примерить то же на родителей, близких друзей или выросших детей.
Мысль о «глобальной переделке» даёт иллюзию контроля. Вам кажется, что вы вовлечены в какой-то процесс, который должен привести к улучшению отношений. Рациональными доводами, или наездами и слезами, или договорённостями «по обмену благами» (давай я тебе – а ты тогда мне), вы пытаетесь добиться от близкого изменений: пусть устроится на работу, бросит пить, станет дарить вам подарки хотя бы на дни рождения, будет меньше кричать и чаще спрашивать, как у вас дела. Перестанет вам изменять или флиртовать с другими людьми. Станет приходить домой раньше полуночи по будням и проводить выходные с вами, а не ездить к своей маме.
Вам кажется, что нужно объяснить ещё лучше, привести ещё больше доводов или ещё красочнее рассказать, как вам плохо, записать его/ её к психотерапевту – и тогда, наконец, он(а) всё поймёт, изменит поведение и ваша жизнь улучшится.
А на самом деле происходит вот что. Вместо своих чувств (которые находятся в раздрае), своего (не лучшего, очевидно) эмоционального и физического состояния и собственных дел вы пытаетесь взять под контроль поступки, мысли и чувства другого человека. Поскольку ни одному смертному это ещё не удавалось, вы вовлечены в отнимающий силы, бесконечный и совершенно безрезультатный процесс. Тем временем близкий, с переменным успехом, продолжает обращаться с вами так, как вы бы НЕ хотели. Изменяет, пьёт, приходит домой к утру, флиртует с другими, не работает или бросает вас на все выходные.
Окей, ну и где тогда выход? Может, ещё раз попробовать его/её убедить?..
Выход длинный и похож на тоннель. По дороге будет темно и неприятно, но где-то вдалеке виднеется просвет – который, правда, не видно, пока вы в этот тёмный и мрачный тоннель не шагнёте. Первый шаг в мрачный тоннель такой: признать, что ваш близкий человек делает что-то, чего вам бы не хотелось или не делает то, что вам бы хотелось. Не делает, и всё. И ещё признать, что вам от этого плохо.
Возможно, это «плохо» очень локальное. Например, вы мечтаете танцевать парные танцы, а он/она ненавидит спорт, двигаться и танцплощадки, и вообще лучше бы дома посидел(а). Или вы очень хотите, чтобы ваш партнёр/партнёрша вкусно готовил(а) или мыл(а) посуду, а он или она ненавидит стоять у плиты и мойки. Вы хотите цветов, а вам их не дарят.
А возможно, это глобальное «плохо». Она или он пьёт, принимает наркотики, изменяет вам, не проводит с вами свободное время, привык(ла) общаться в унижающей и критикующей манере, высмеивает вас, повышает голос.
Общий знаменатель любой из этих ситуацией: к сожалению, вы не можете взять под контроль её или его поведение. Это невозможно, таких средств не существует. Если кто-то (коуч, психолог, врач, маг) обещает вам подобное – он мошенник. Более того, печальное наблюдение: если у вас уже состоялась пара разговоров, и человек своё неприятное для вас поведение продолжает – с огромной вероятностью, так дальше и будет. Шансы на изменение невелики. Вы должны прикинуть, что оставшись с этим человеком, вероятно, подпишетесь на продолжение точно такой же жизни.
Важно! Есть случай, когда дальнейший шаг – не обдумывать, а уходить, как только вы осознали происходящее. Это любое физическое насилие. Побои, толчки, кидание предметов в вас или в стену рядом, хватание за руки до синяков, секс без согласия и любые другие формы насилия. Диалог с человеком, совершающим его, бесполезен. Вам стоит уходить как можно скорее, вместе с детьми, если они есть. Не уведомляя насильника и желательно такое место, о котором он не знает. Попросите помочь вам друзей, родных, обратитесь в шелтер или на телефон доверия с просьбой помочь вам выработать план действий.
Во всех остальных случаях – когда нет физической угрозы жизни – это тот самый момент, когда пора прислушаться к своим чувствам. Что происходит с вами, когда ваш муж / жена разговаривают с вами в таком тоне? Каково вам снова проводить в одиночестве все выходные? Что вы ощущаете, когда видите своего партнёра флиртующим и танцующим весь вечер не с вами? Когда вы везёте его домой в полужидком от алкоголя или наркотиков состоянии, когда ловите сочувственные взгляды друзей?
Что вы чувствуете, когда представляете такую жизнь на протяжении ещё многих лет, до старости?
На эти размышления можно потратить несколько дней, а может быть, и несколько недель. Обычно, если вы сумели отказаться от магической идеи контроля, вас охватывает разочарование и другие неприятные чувства: гнев, обида, подавленность, а иногда ярость или бессилие. Часто – злость на себя или стыд. Вспоминается, как вы плакали и кричали, а через два дня всё повторялось снова. Нередко в этот момент люди осознают, что этот цикл «крутится» уже очень долгое время, порой годами и десятилетиями. А они всё это время находились в плену созависимой идеи, что сейчас они поднапрягутся как следует и что-то поменяют.
Простите себя. Вы не виноваты, что попали в этот цикл – в него сложно не попасть, живя в нашем обществе. Так случается довольно часто. Как только вы начинаете его осознавать, у вас появляется возможность изменить что-то. Не кого-то, не партнёра – а что-то изменить для себя. Это хорошая новость.
Дальше следует разговор с близким человеком. В максимально спокойной форме изложите факты. Угроз не надо, говорите только то, что думаете. Говорить о возможном расставании следует только в том случае, когда вы действительно готовы расстаться. Если не готовы, так и говорите: «Я люблю тебя и хочу и дальше жить /встречаться с тобой. Но такое положение дел меня не устраивает совсем. Мне от него больно, плохо и неудобно. Скажи, возможны ли какие-то изменения?»
Дальше многое зависит от партнёра. Он может закончить разговор, сказав, что его всё устраивает, что вы всё придумываете, что надо «легче ко всему относиться». Может слиться: «Ой, смотри, птичка полетела, я так устал, давай не сегодня и не завтра», – что примерно то же самое. Тут вам придётся вернуться к пункту о чувствах и пережить их все заново. Возможно, будет ещё один разговор или его попытка. Но в целом прогноз печальный: человек только что сказал вам, что не собирается переставать делать вам больно и плохо. Выводы делайте сами.
Если она или он готовы обсуждать изменения – это хорошо. Хотя всё ещё ничего не гарантирует. Вам нужно договориться о том, каким образом осуществлять эти изменения. Хорошо будет спросить: «Могу ли я что-то сделать, чтобы поддержать себя?».
Стоп-стоп, что, опять созависимые игры в переделку? Нет. Важно понимать, что вы можете поддержать партнёра на пути к изменениям. Но не произвести их за него. Поэтому если он просит давать ему час побыть в одиночестве после прихода с работы – это просьба о поддержке, которая обсуждаема и выполнима. А вот если он просит прятать от него выпивку или хранить у себя все наличные, чтобы он не потратил их на героин – это про созависимость: вы не можете управлять тратами взрослого человека и его паттерном употребления психоактивных веществ.
Тут может понадобиться и семейных психолог, и какие-то книги по самопомощи для пар, а может, и то и другое вместе. И да, к сожалению, нет гарантий, что даже после всех этих мер какие-то изменения наступят. В таком случае вам придётся решать, готовы ли вы на такую жизнь или хотите расстаться.
Довольно мрачная картина. А какие тогда плюсы? Плюсы в том, что вы перестанете допускать плохое отношение к себе. Признать его бывает не просто, но постепенно вы научитесь его замечать и оно перестанет быть для вас нормой. Вместо бесполезных попыток управлять поведением другого человека вы научитесь говорить «мне так не подходит, давай что-то менять» или уходить. А значит, станете больше контролировать свою собственную жизнь и то, что в ней происходит. Это единственный работающий способ сделать её лучше.
Автор: Яна Шагова, психолог.