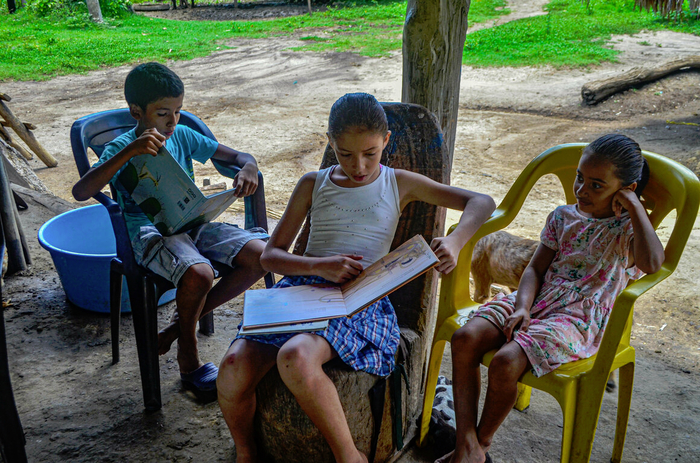Михаил Леонович Гаспаров "Занимательная Греция"
Имя «Платон» значит «широкий»: так прозвали его в юности за ширину плеч и продолжали звать в старости за широту ума. Он был из знатнейшего афинского рода, предком его был Солон. Смолоду он писал стихи, но однажды, когда он нес в театр только что сочиненную трагедию, он услышал разговор Сократа, швырнул свою трагедию в огонь и стал самым преданным учеником Сократа. А когда афинская народная власть казнила Сократа, он возненавидел эту народную власть на всю жизнь.
Сократ никогда ничего не писал: он только думал и разговаривал. Когда думаешь, то твоя мысль в движении, а чтобы записать, ее надо остановить. Сократ не хотел останавливать свою мысль – за это он и погиб. А Платон положил всю свою жизнь именно на то, чтобы остановить мысль: пусть она изобразит нам самое прекрасное, самое настоящее, самое лучшее, мы это запишем, мы это устроим, и дальше пусть ничего не меняется: пусть начнется вечность. Страх перед безостановочностью мысли был в Платоне так же силен, как и в ненавистных ему афинских судьях.
Как и все, он видел вокруг, что люди живут плохо, и думал, какие нужно ввести порядки, чтобы жизнь стала хороша раз и навсегда. Но начинал он свою мысль очень издали.
Сократ говорил: человек должен заботиться не о мироздании, а о своих человеческих делах: обдумать хороший поступок – и совершить его. Но ведь так же работает любой столяр: обдумает, какой он хочет стол, – и сделает его. При этом сделанный стол никогда не бывает так хорош, как задуманный: то рука дрогнет, то доска плохая попадется. Откуда же в уме у столяра его замысел прекрасного стола, если на свете он таких столов никогда не видел? Должно быть, он заглянул умственными очами в какой-то мир, где существует всем-столам-Стол и всем-горам-Гора и всем-правдам-Правда, – заглянул, увидел и постарался воспроизвести этот Стол в дереве, как Сократ старался воспроизвести эту Правду в хороших поступках. Самому Платону этот умопостигаемый мир виделся настолько ясно, что он так и назвал этот Стол и эту Гору «образами» стола и горы – по-гречески «идеями». В них нет ничего лишнего, ничего случайного, что всегда бывает в земных предметах, все прекрасно, выпукло и ярко: не стол, а сама Стольность, не гора, а сама Горность, а выше всех – Правда, Красота и Добро. «А я вот, Платон, стол и гору почему-то вижу, а Стольности и Горности, хоть убей, не вижу!» – перебивал его ругатель Диоген. «Это потому, что у тебя нет для этого глаз, – отвечал Платон. – Все твои столы и горы – лишь тени, падающие от идеи-Стола и идеи-Горы». Как это – тени? А вот как.
Представьте себе: идет дорога, а вдоль дороги – длинная щель в земле, а под этой щелью – длинная щелью – длинная подземная пещера, вроде тюрьмы для рабов. В пещере сидят люди в колодках – ни пошевелиться, ни оглянуться; за спиной у них светлая щель, перед глазами у них голая стена, и на эту стену падают их тени и тени тех, кто проходит по дороге. Узники видят мелькание теней, слышат эхо голосов, сопоставляют, догадываются, спорят. Но если кого-нибудь из них расковать, вывести на ослепляющий солнечный свет, показать ему настоящий мир, а потом спустить его обратно к его друзьям, – они ему не поверят. Вот таковы и философы, заглянувшие в мир идей, среди толпы, живущей в мире вещей.
Что же позволяет им, философам, заглядывать в мир идей? Воспоминание. Наши души до нашего рождения жили там, в мире идей, и оттуда сходили мучиться в наши тела, как с солнечного света в подземную пещеру. И, видя здесь деревянный стол и каменную гору, душа вспоминает идею-Стол и идею-Гору и понимает, что такое перед ней. А видя здесь красивого человека, душа не остается спокойной, она вспыхивает любовью и рвется ввысь, потому что это для нее напоминание о несравненной красоте мира идей. И когда поэт творит стихи, то он вдохновляется не тем, что он видит вокруг себя, а тем, что помнит его душа из виденного до рождения. Если же стихи или картины списаны не с идей, а с вещей, то грош им цена: ведь если вещи – лишь тени идей, то такие стихи – тень теней.
Такими обрывками воспоминаний живут все, постоянно же созерцать мир идей могут лишь немногие. Для этого нужны долгие годы умственных упражнений, начиная с самых простых – над геометрическими фигурами. Когда мы говорим «квадрат», то все представляем себе одно и то же; когда говорим «правда», то совсем не одно и то же; так вот, вглядываясь и вдумываясь, нужно добиться того, что и правда будет одна для всех, как геометрия – одна для всех. Кто до этого досмотрелся, тем и должна принадлежать власть, и они создадут такое государство, которое будет вечно и неизменно, как мир идей. Когда-то в Греции власть принадлежала самым знатным; потом – самым многочисленным; теперь пришла очередь самых мудрых.
Государство должно быть едино, как живое существо: каждый член его знает свое дело, и только свое. В человеческом теле есть три жизненные силы: в мозгу – разум, в сердце – страсть, в печени – потребность. Так и в государстве должны быть три сословия: философы – правят, стражи – охраняют, работники – кормят. Достоинство правителей – мудрость, стражей – мужество, работников – умеренность. К каждому человеку начинают присматриваться еще за детскими играми, определяют способности и причисляют к сословию – чаще всего, конечно, к тому, из которого он и вышел. Если он правитель или страж, то он освобожден от труда на других, зато и не имеет ничего своего: здесь все равны друг другу, все едят за одним столом, как в древней Спарте, все имущество – общее, даже жены и дети – общие; кратковременными браками распоряжаются правители заботясь лишь о том, чтобы у детей была хорошая наследственность. Если же он работник, то ему назначают труд по склонностям и способностям, и менять его он уже не имеет права. Думать дозволено лишь правителям; остальным – только слушаться и верить. Сами правители верят в мир идей, а для работников сочиняют такие мифы, какие сочтут нужными. Ибо как иначе можно что-то объяснить тем, кто сидит в пещере теней и никогда не видел солнца?
Такова была живая государственная машина, с помощью которой Платон хотел удержать от развала привычный ему мир – город-государство, крепкое законом и единством. Здесь каждый приносит себя в жертву государству, чтобы оно стояло вечно, обновляясь, но не меняясь, как небесный свод. И, глядя на эту цель всей жизни Платона, невольно думаешь: а ведь попади в такое государство Сократ, не умеющий останавливать свою мысль ни на каком совершенстве, на всякое «знаю» отвечающий «а вот я не знаю», – и его ждала бы такая же смерть, как в Афинах. Понимал ли это Платон?
Государство было придумано – государство нужно было построить. «Не быть в людях добру, пока философы не станут царями или цари – философами», – сказал Платон. Он окинул Грецию взглядом: где тот царь, которого можно сделать философом, чтобы он после этого сделал философов царями? Взгляд его остановился на Сиракузах – на Дионисии Старшем, а потом на сыне его Дионисии Младшем. И Платон, ненавистник тирании, потомок аристократов-тираноборцев, поехал к сиракузским тиранам.
С Дионисием Старшим разговор его был недолог. Платон встал перед Дионисием и начал говорить, как жалок тиран в сравнении с мудрецом. Дионисий слушал мрачно. «Стало быть, тиран не мудр?» – «Мудр лишь тот, кто делает сограждан лучше». – «И не храбр?» – «Храброму ли бояться собственного цирюльника?» —«И не справедлив в суде?» – «Всякий суд лишь штопает дыры в лохмотьях Справедливости». – «Зачем же ты, в таком случае, приехал?» – «Искать совершенного человека». – «Тогда считай, что ты его не нашел!» И Дионисий удалился, отдав приказ: когда Платон поедет обратно в Афины, схватить его и продать в рабство.
Платона вывели на продажу в незнакомом городе – он не сказал ни слова. Среди народа случайно оказался Анникерид, ученик Аристиппа; он узнал Платона, купил его и тотчас отпустил на волю. Афинские друзья Платона хотели возместить ему эти деньги – Анникерид гордо ответил: «Знайте: не только в Афинах умеют ценить философию».
В сказочные времена жил близ Афин герой Академ. Когда царь Тесей похитил в Спарте юную Елену и ее братья Диоскуры погнались за похитителем, Академ показал им, где спрятана их сестра. Поэтому, когда спартанцы разоряли афинскую землю, они не тронули той пригородной рощи где когда-то жил Академ. Эта «Академия» осталась мирным уголком среди раздоров и бедствий. Здесь на те деньги, которых не принял Анникерид, друзья купили Платону усадьбу. На воротах ее написали: «Не знающим геометрии вход воспрещен». Здесь он думал, писал, беседовал с учениками и ждал царя-философа.
Прошло двадцать с лишним лет. Дионисия Старшего в Сиракузах сменил Дионисий Младший – неумный, своенравный и распущенный. Отец боялся в сыне соперника, держал его взаперти и ничему не учил, и тот коротал скуку, сколачивая деревянные тележки и столики. Придя к власти, он загулял: попойки его длились по девяносто дней, а все дела в государстве стояли. Ему было совестно своего невежества и нрава, но перебороть себя он не мог. У него был дядя, по имени Дион, страстный поклонник Платона. Дион предложил пригласить в Сиракузы Платона и дать ему земли и денег для основания философского государства. Дионисий ухватился за эту мысль всей своей неспокойной совестью.
Платон вторично отправился в Сиракузы и был принят по-царски. Дионисий от него не отходил, геометрия стала придворной модой, комнаты дворца были засыпаны песком, на котором чертились чертежи. Больше того – Платон единственный мог входить к тирану без обыска. Аристипп обиженно говорил: «С таким гостем Дионисий не разорится: нам, кому нужно много, он дает мало, а Платону, которому ничего не нужно, – много». Не давал Дионисий только помощи для философского города: он боялся, что там укрепится Дион и свергнет его. Дион был отправлен в изгнание, и Платон понял, что надеждам его конец. С трудом он отпросился у Дионисия на родину. Прощаясь, Дионисий угрюмо сказал: «Не говори обо мне дурного в Академии». Платон невесело ответил: «Плохой бы я был философ, если бы мне больше не о чем было говорить».
Прошло еще пять лет, и Платон приехал в Сиракузы в третий раз – мирить Дионисия с Дионом. Ничего из этого не вышло. У Дионисия не было ненависти к Платону, хуже: он его любил – любил тяжкой любовью человека, который знает, что недостоин взаимности. Он выслушивал уроки, упреки, обличения, но Платона от себя не отпускал. О возвращении Диона не могло быть и речи: к Диону тиран ревновал Платона смертной ревностью. Платон вернулся ни с чем. Тогда Дион собрал отряд наемников, пошел на Сиракузы, изгнал Дионисия силой, но сиракузянам новый тиран показался не лучше старого, и Дион был убит раньше, чем успел подумать о философских законах. Говорили, что его убил Каллипп – такой же ученик Платона, как и он.
Платон дряхлел в Академии, вновь и вновь перекраивая свой чертеж идеального государства. И чем дальше, тем больше ему становилось ясно: вечному благу нет места на земле, род человеческий слишком испорчен, даже наилучшее государство обречено. Перед смертью он стал писать книгу о войне двух идеальных государств и о гибели того из них, которое в своем величии забыло о божественной добродетели и погналось за земными благами. Эти два государства – Афины и Атлантида.
Действие происходит девять тысяч лет назад, за несколько потопов до нашего времени – то есть это откровенная сказка. Афины этой сказки – настоящее платоновское государство: добродетельные стражи, у которых все общее, и добродетельные работники, которым легко трудиться, потому что земля богата, как в золотом веке. Здесь холмистые горы, раскидистые дубравы, тучные поля и изогнутые берега. Атлантида же – это остров в океане, на нем поле – как прямоугольник по линейке, а город – как круг по циркулю. В городе три канала, кольцо в кольце, над каналами три стены – из меди, олова и таинственного металла орихалка, на прямых улицах – дома из камня, черного, белого и красного, в середине же – храм Посейдона, стены серебряные, кровля золотая, потолок – слоновой кости, а простенки – орихалковые. Правили в этом геометрическом великолепии десять царей, потомки Посейдона. И вот когда стало им их богатство дороже добродетели, то Зевс, блюститель законов, решил наложить на них кару… Здесь, у самой завязки, смерть оборвала рассказ Платона
У Платона, имя которого значит «широкий», был ученик Аристотель, имя которого значит «благое завершение». Эти имена так хорошо им подходили, что казалось, были придуманы нарочно.
Аристотель был хорошим учеником. Говорили, что однажды Платон читал лекцию о бессмертии души. Лекция была такая трудная, что ученики, не дослушав, один за другим вставали и выходили. Когда Платон кончил, перед ним сидел только один Аристотель.
Аристотель учился у Платона двадцать лет, и чем дольше слушал, тем меньше соглашался с тем, что слышал. А когда Платон умер, Аристотель сказал: «Платон мне друг, но истина дороже», покинул Академию и завел собственную школу – Ликей, при священном участке Аполлона Ликейского. Занятия он вел не стоя перед сидящими, как Платон, а прохаживаясь с ними под навесом. Их прозвали «гуляющими философами» – перипатетиками.
Аристотель говорил так. Платон прав, а Диоген неправ: есть не только стол, но и Стольность не только гора, но и Горность. Но Платону кажется, что Стольность – это что-то гораздо более яркое, прекрасное и совершенное, чем стол. А это неверно. Закройте глаза и представьте себе вот этот стол. Вы представите его во всех подробностях, с каждой царапинкой и резной завитушкой. Теперь представьте себе «стол вообще» – платоновскую идею Стольности. Сразу все подробности исчезнут, останется только доска и под ней то ли три, то ли четыре ножки. А теперь представьте себе «мебель вообще»! Вряд ли даже Платон сумеет это сделать ярко и наглядно. Нет, чем выше идея, тем она не ярче, а беднее и бледнее. Мы не созерцаем готовые «образы», как думал Платон, – мы творим их сами. Повидав сто столов, тысячу стульев и кроватей, сто тысяч домов, кораблей и телег, мы замечаем, какие приметы у них общие, и говорим: вот вид предметов «стол», род предметов «мебель», класс предметов «изделие». Разложим все, что мы знаем, по этим полочкам родов и видов – и мир для нас сразу станет яснее.
У Платона мир похож на платоновское же государство: вверху сидит, как правитель, идея Стольности, а внизу ей покорно повинуются настоящие столы. У Аристотеля же мир похож на обычную греческую демократию: столы встречаются, выясняют, что в них есть общего и что разного, и совместно вырабатывают идею Стольности. Не нужно смеяться: Аристотель действительно считал, что каждый стол именно стремится быть столом, а каждый камень – камнем, точно так же как желудь стремится быть дубом, а яйцо – птицей, а мальчик – взрослым, а взрослый человек – хорошим человеком. Нужно только соблюдать меру: когда стремишься быть самим собой, то и недолет и перелет одинаково нехороши. Что такое людские добродетели? Золотая середина между людскими пороками. Смелость – это среднее между драчливостью и трусостью; щедрость – между мотовством и скупостью; справедливая гордость – между чванством и уничижением; остроумие – между шутовством и грубостью; скромность – между застенчивостью и бесстыдством. Что такое хорошее государство? Власть царя, но не тирана; власть знатных, но не своекорыстных; власть народа, но не бездельничающей черни. Мера во всем – вот закон. А чтобы определить эту меру, нужно исследовать то, что ею мерится.
Поэтому не надо понапрасну вперяться умственными очами в мир идей – лучше обратить настоящие свои глаза на мир окружающих нас предметов. Платон очень красиво говорил, каким должно быть идеальное государство, а Аристотель составляет 158 описаний для 158 настоящих греческих государств и потом уже садится за книгу «Политика». Платон больше всех наук любил математику и астрономию, потому что в мире чисел и звезд порядок сразу бросается в глаза, а Аристотель первый начинает заниматься зоологией, потому что в пестром хаосе живых существ, окружающих человека, навести порядок труднее и нужнее. Здесь Аристотель сделал чудо: он описал около 500 животных и выстроил их на «лестнице природы» от простейших к сложнейшим так стройно, что его система продержалась две тысячи лет. Некоторые его наблюдения были загадкою: он упоминал такие жилки в насекомых, которые мы видим только в микроскоп. Но специалисты подтверждают: да, так, обмана здесь нет, просто у Аристотеля была такая острота зрения, какая бывает у одного человека на миллион. Острота ума – тоже.
Видеть вещи, как они есть, – гораздо грустнее, чем безмятежно знать, какими они должны быть. Чтобы так смотреть на них, чтобы так вымерять в них золотую середину, нужно чувствовать себя в мире человеком посторонним, равно благожелательным ко всему, но сердцем не привязанным ни к чему. Таков и был Аристотель, сын врача из города Стагиры, всю жизнь проживший на чужой стороне. Он не чувствует себя ни нахлебником, ни поденщиком, ни хозяином жизни – он чувствует себя при ней врачом. Для врача нет мелочей: он ко всему прислушивается, все сопоставляет, все старается предусмотреть. Но он помнит: к врачу люди обращаются, только когда они больны, он в их жизни не распорядитель, а советник. Смешно воображать, как Платон, что кто-то когда-то доверит философу устройство государства: самое большее – у философа могут спросить какого-нибудь случайного совета, и тогда советы царю следует подавать так-то, а народу – так-то. Аристотель жил и при царе – он был воспитателем Александра Македонского, и при народе – он был главою школы в афинском Ликее. Но умер он в изгнании, на берегу пролива, что между Аттикой и Эвбеей, и думал он, умирая, не о государственных делах, а о том, почему в этом проливе вода шесть раз в сутки меняет течение – то на запад, то на восток.
Это Аристотель сказал: «Корни учения горьки, но плоды его сладки»