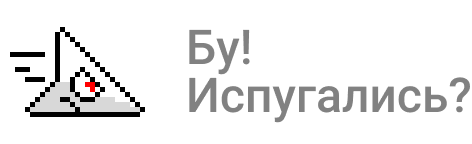Весна застряла в зиме. Как страус, засунувший со страху голову в песок, а задницу оставивший на съедение врагам. Так и календарная очередь не поспевала и посему, все сумасшедшие, все те, у кого особенно обостряется известно где, посему все они приуныли. И чаще сидели по домам. В ожидании. А если и выходили наружу себя, то были несчастны и серы как нависающее небо.
Ирина Потицына шла домой в хутор. В городе особенно делать нечего, приспичило крендельков к чаю. Вот и поплелась, дурёха. Теперь обратно по грязи, как малогабаритный трактор, она текла к себе в хутор. А это, почитай четыре километра.
Ей бы молча хлюпать да семечки лузгать, да расшевелилось нутро. А в нутре известно что – окромя дерьма только утренний творог да вчерашняя селедка. Не на обочине же опроститься чуть ли не вслух сказала она и даже подавилась семечкой. А живот выл как иерихонская труба.
На счастье, за поворотом показалось здание конторы бывшего Совхоза. Здание ветхое, заколоченное местами крест на крест. И кинулась к нему Ирина как к мужу вернувшемуся с войны. Подбежала, остановилась у дверей. Поддала газа. А двери то все заколоченные. И везде надписи типа хуй, пизда и жопа. Не могла себе позволить потомственная доярка срать на крыльце Совхоза, не так её родители воспитали. Обошла она кругом здание. И видит, во дворе старый сортир. Деревянный замок. Номер люкс на двоих, М и Ж.
Кинулась она к нему, как в омут. Скрипнула дверью. Стянула юбку, колготки с трусами и присела над дыркой. А из дырки заунывно ветер воет, как певец Кобзон. И стали из Ирины сельди в твороге выскакивать, хоть сачок подставляй. Почти что цельные. На последок еще с газами голова селедочная вышла, правда с одним глазом. И старый замок, деревянного зодчества не выдержал. Такое часто от долгого простоя. Не выдержали гнилые доски, надломились. Уволокли Ирину за собой. И упала она в самую гущу событий. Еще и досками себе рёбра пересчитала.
Сидит. Сама в тереме, а коса наружу. Ревмя ревет. Бумажку какую-то. Газетный огрызочек подобрала, слёзки вытирает. Стала на помощь звать. Только голос сиплый. Ребра болят. Опарыши оживились от свежего прихода и весенней блажи. За что всё это.
Сипела Ирина сколько сил было. Да и уснула от усталости.
На счастье её мимо проходили рыбаки, Павел и Пётр. Известные ловчие на опарыша. Ну и решили заглянуть в совхозный сортир, пристреляться так сказать. Сунулись было в отдел Ж, где всегда опарыша больше бывало, а там доски сломлены и из дыры бабская голова торчит. Пётр первым сказал «ебать». И от этого «ебать» Ирина очнулась, как спящая красавица от поцелуя.
Стала она стонать, чтобы высвободили её, чтоб спасли. А Павел и Пётр отошли чуть поодаль, чтобы подумать. Ну и чтоб так не смердило.
Павел предложил за косу тащит. Как якорь. А то изгваздаются все, как говночисты. Вернулись обратно. А Ирина изнутря сортира золотыми зубами подсвечивает. Говорит, всё что хотите со мной делайте потом, ребята. Только вызволите из говна. Пётр снова сказал «ебать» и это прозвучало уже не отстраненно, а как команда. Стали они вытягивать Ирину из пучины. Вонь глаза режет, да и баба орёт, как поросенок недорезанный.
Кое-как вынули наружу. Конечно, все обляпались. Благо одёжа брезентовая, не страшно. А Ирина сидит на земле, жопа голая, юбка, колготки да трусы там остались; сидит рожу рукавом утирает, плачет от счастья.
Отошла чуток, отдышалась, от свежего воздуха у неё даже голова закружилась. Говорит, ребята, я вдовая, я вас как хотите отблагодарю сейчас. Вы ж мои спасители. Я вот только за сушками в город приходила, да селедка, будь не ладна, меня подвела. Пётр поморщил нос и ничего на этот раз не сказал. А Павел, напротив, подумал, что если её обмыть из лужи, то и ничего. Повоняет, повоняет, да и ничего. И не так воняло по молодости.
А Ирина что, она и рада. Давай в луже как поросенок барахтаться, как священная индийская корова нырять. Холод на дворе, а ей не по чём. Деревенские бабы крепкие. И дуры еще.
Пётр всё-таки решил в интим не вступать. У него еще от кумы мандавошки не прошли. И он степенно чесал пах, пыхтя сигареткой. А Павел уже надрачивал, будто червя на крючок насаживал. Встала Ирина из лужи, грязная, чумичка. Даже про боль в рёбрах позабыла. Золотыми зубами щёлкает, Павла подзывает. Ну и кинулся тот как в омут. И потонул…
Три месяца с тех пор прошло. Суд. Да пересуды. Громкое дело для здешних мест. Судья самоотвод брал три раза и три раза его под автоматами обратно садили под мантию. Дали Ирине Потицыной восемь лет, за то что Пётр в её манде сгинул. А вот так и сгинул. Сунул вроде кончик, а манда всего его и засосала. Как чёрная дыра, как болота, топь, а не манда. Павел тогда рассудка лишился и свидетельствовать толком не мог. Только бекал и сопли пускал. А увидел всё это глава администрации, который со шлюхами в то же самое время на вертолете облет своих владений делал. Оптика у его ружья хорошая. А как увидел, так и стал палить. Подранил Потицыну в сиську и потекло из сиськи той дерьмо, как из шланга. От чего Петру еще хуже сделалось. Упал он на четвереньки и стал то дерьмо пить. Пил и выл. Пока прокуратора не приехала. А как приехала, так и разочаровалась в жизни. Хотя и до этого всем в округе скучно было.
Петра в интернат определили. Потому что он не переставая выл, успокаивался только когда ему дерьма давали. Оно для него как манная каша в детстве стало. Чем жиже, тем вкуснее. А Ирину Потицыну в далёкие мордовские земли увезли, вину искупать. Тело Петра в ней таинственным образом перебродило и вечным смрадным духом наградило потомственную доярку. К которой никто на пушечный выстрел не подойдёт.