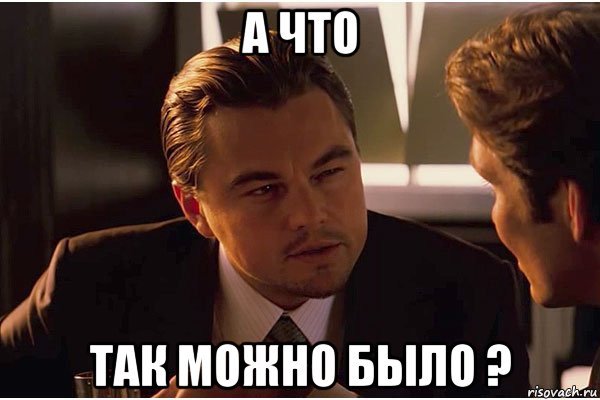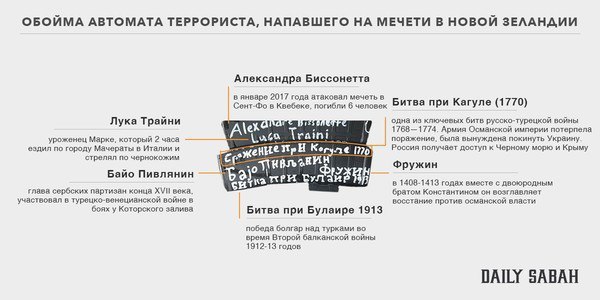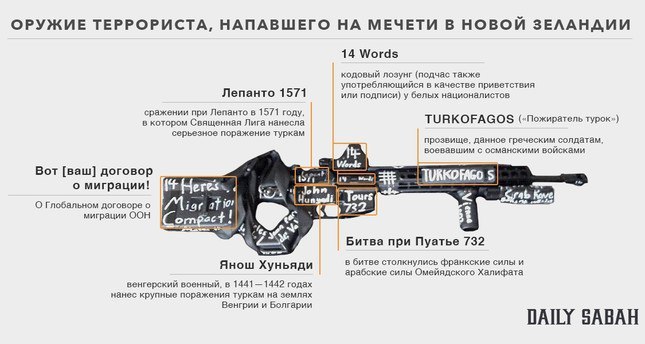Как «Реввоенсовет» чуть не взорвал памятник Петру I и другие московские «Красные бригады» 1990-х. Часть 2
Где-то посредине всей этой истории выяснилось, что в московском пруду водятся зубастые щуки и пострашнее НРА. В ночь на 1 апреля 1997 года в подмосковном селе Тайнинское прогремел взрыв, от которого на двух окрестных улицах повылетали стекла. Объектом диверсии стал установленный очередной монархистской организацией бронзовый памятник Николаю II работы скульптора Клыкова. Устройство было такой мощности, что от царя остались только обломки ног, обутые в сапоги. У леваков и московской богемы вскоре появилась мода ездить туда и фотографироваться на фоне монаршьих конечностей.
В том, что за взрывом стояли именно левые, можно было даже не сомневаться: как раз в эти дни в Думе опять обсуждался вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея. И хотя милиция сперва выдвинула «земельно-криминальную» версию произошедшего, 13 мая в редакции наиболее известных СМИ были разосланы факсы, в которых говорилось о создании «Реввоенсовета РСФСР» (так назывались создававшиеся во время Октябрьской революции при Советах комитеты, руководившие вооруженным восстанием), при котором учреждались «Рабоче-Крестьянская Красная Армия», «Ревтрибунал» и «Народный Комиссариат Внутренних Дел». О подрыве памятника прямо говорилось, что это было сделано по приговору Ревтрибунала и в знак протеста против возможного выноса Ленина. Но даже тогда в террористов никто не поверил, а зря.
Ранним утром 6 июля того же года на оперативные пульты милиции и ФСБ поступил звонок с сообщением о минировании памятника Петру I работы Зураба Церетели. Прибывшие на место саперы ахнули и прослезились: на постаменте было закреплено несколько брикетов японского пластида общим весом 5 кг. Даже матерые ветераны всевозможных спецназов за время своей службы вряд ли держали в руках более 400 г этой крайне эффективной и очень дорогой взрывчатки. А тут найденное тянуло примерно на 20 тыс. долларов США, а еще выяснилось, что неизвестные бомбисты подобрались к постаменту в аквалангах верхом на акваторпеде и протянули кабель от взрывателя на противоположный берег. С техническим оснащением у них было все в порядке, но почему же ненавидимый в то время всеми москвичами истукан остался на своем месте?
На сей счет есть две версии: одна романтическая и другая, больше похожая на реальность. Согласно первой за несколько минут до взрыва к набережной с другой стороны Стрелки подошла загулявшая парочка и принялась целоваться. Реввоенсоветовцы посовещались, решили, что счастье влюбленных им дороже, и объявили памятник взорванным условно. Согласно второй участник группы, который должен был нажать на кнопку и замкнуть детонатор, испугавшись возможной ответственности, запаниковал, убежал и позвонил в милицию.
Первый вероятный подозреваемый по делу РВС был арестован уже 3 августа. Тридцатитрехлетний Игорь Губкин ничуть не напоминал молодого левака, скорее он был похож на одного из прыгнувших в «шестисотые» новых хозяев жизни. Многие левые публицисты вообще считали его засланным казачком от силовиков, поскольку еще в бытность свою во Владивостоке он принимал участие в деятельности некоего «батальона по борьбе с наркоманией и преступностью в молодежной среде». Аналогичной структурой — «оперативным комсомольским батальоном Владивостока по борьбе с преступлениями, наркоманией, контрабандой и валютными махинациями» — в то время командовал и человек номер два в РВС Валерий Скляр. Еще один эрвээсовец, носивший погоны — Владимир Белашев. На момент своего ареста он занимал должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ и состоял в дружеских отношениях с главой РУБОП и будущим министром внутренних дел Владимиром Рушайло.
Другие с не меньшим основанием считали Губкина представителем криминала. При изучении его биографии перед глазами встает образ Остапа Бендера, начисто лишенного почтения к Уголовному кодексу. В 1990 году во Владивостоке он получил от местных властей 300 тыс. рублей на создание «образцовой фермерской деревни», после чего исчез с деньгами. Всплыл в Москве, где стал ходить по высоким кабинетам с идеей создания «Службы экономической безопасности» для малого бизнеса — фактически ЧОПа, занимающегося узаконенным рэкетом. Роль кузницы кадров для этой конторы должна была играть «Лига профессионального бокса» — тренировочная база, где из юных комсомольцев и местных гопников делали «бойцов» для криминальных разборок. Закончилась эта эпопея трехлетним сроком «за хулиганство и самоуправство», а точнее, за избиение прокурора города Железногорска.
Игорь Губкин
На свободу Губкин вышел в 1996 году, к президентским выборам, и сразу же стал одним из руководителей штаба Зюганова. Туда он явился с идеей создания «жилищного кооператива МЖК». Как и все пирамиды, она была гениальной и гениально-идиотской одновременно: пайщики должны были скинуться по 200 долларов, участвовать в акциях КПРФ и МЖК, бесплатно работать во время предвыборной кампании, распространять газету МЖК… а за это получат «квартиру, конфискованную у буржуев после победы коммунистов» либо построенную на паях. В МЖК вступили более 5 тыс. членов КРПФ. В общей сложности Губкину удалось получить с них 1,4 млн долларов. Когда в 1997 году выяснится, что аналогичную аферу он пытался провернуть с ветеранами войны и труда и состоявшими в КПРФ пенсионерами, которым предлагалось отдать МЖК свои квартиры в обмен на переселение в «экологически чистый пансионат неподалеку от Москвы», Губкина с позором исключат из партии. КПРФ получила колоссальный удар по своей репутации, а Губкин унес солидный куш, который, видимо, и стал источником финансирования для РВС.
После его ареста «Реввоенсовет» смог организовать еще одну, а по некоторым данным, все же две акции. Первой стало минирование газораспределительной станции в Люберцах в начале ноября 1997 года. Если бы взрыв состоялся, московскому коммунальному хозяйству был бы нанесен колоссальный ущерб. Но реввоенсоветовцы собирались не устраивать диверсию, а шантажировать власти с целью добиться освобождения Губкина. На этот раз спецслужбы сработали оперативно, и 13 ноября еще двое членов группы, Скляр и Максименко, оказались за решеткой. Вероятно, последней гастролью РВС стал подрыв еще гипсового Николая II в Подольске. «Но это не точно», поскольку следствие в итоге приписало эту акцию НРА.
В 1999 году все арестованные к тому моменту предполагаемые участники «Реввоенсовета» — Игорь Губкин, Владимир Белашев, Сергей Максименко, Валерий Скляр, Юрий Внучков и Владимир Радченко — предстали перед судом. По словам Ларисы Романовой, изначально ФСБ собиралась привлечь куда больше обвиняемых из числа тех, кто так или иначе сотрудничал с Губкиным, но доказать их участие в РВС не удалось: «Весь этот “Реввоенсовет” был штукой довольно эфемерной. Существовала группа Игоря Губкина со своей газетой и темами прямого действия. Он, собственно, и не скрывал связь между своей тусовкой и взятием ответственности за акции РВС. Мы на это глядели и думали: “Какие же они дебилы”. А их туса ничего не знала про анархистов, кроме того что, наоборот, анархи дебилы и только помидорами кидаться умеют. Когда посадили Губу и его самое ближнее окружение, стало их жалко, хоть они и были сталинистами. Но близкого общения с ними мы избегали, да и невозможно нам было нормально общаться: с одной стороны — панки с ирокезами драные, живущие на сквотах, а с другой — дяди в костюмах на тачилах, разница есть».
Владимир Белашев, Валерий Скляр, Юрий Внучков, Владимир Радченко возле здания Московского городского суда
Что характерно, адвокат Маркелов, грудью встававший на защиту любого левого активиста, вышел из этого дела буквально после нескольких слушаний, а потом заявил на радио «Свобода», что «за политическим флером скрывается уголовщина, причем уголовщина очень грязная, беспредельная, вот именно такая махровая». Дело вернули на доследование, а обвиняемых в терроризме… отпустили под подписку о невыезде из-за истечения предельных сроков содержания под стражей. Затем пути организации и ее вожака разошлись.
Губкин по подложному паспорту уехал во Владивосток, где, по его словам, пытался развернуть партизанское движение, конечной целью которой было создание Дальневосточной Советской республики при поддержке «братской» Северной Кореи. Деньги на все это он решил добывать рэкетом, но в процессе идейной борьбы за денежные знаки слегка переусердствовал и застрелил из обреза местного бизнесмена Бориса Егорова. Его вскоре арестовали, а дело выделили в отдельное производство. Все остальные в 2002 году получили сроки от 4,5 до 10,5 года.
За Губкина, еще недавно, во время своего кратковременного выхода на свободу, раздававшего хвастливые интервью «МК» и «Коммерсанту», взялись всерьез. В 2006 году Мосгорсуд насчитал ему эпизодов на 19 лет строгого режима — к 14 годам за убийство добавили терроризм, изготовление взрывных устройств и мошенничество, сняв при этом обвинение в создании «Реввоенсовета». Потом срок немного скостили, и в 2016-м он вышел на свободу. За время своего заключения Губкин написал ряд книг и брошюр, в одной из которых излагал совершенно библейский план революции — по условному сигналу эвакуировать из Москвы всех коммунистов и сбросить на город ядерную бомбу.
22 апреля 1997 года во время выступления Геннадия Зюганова на митинге КПРФ прямо ему в лицо из толпы полетели помидоры. Так решил заявить о себе Революционный Коммунистический Союз Молодежи — РКСМ(б). Левый политолог Борис Кагарлицкий писал: «Политика вновь была подчинена эстетике: красные радикалы на Красной площади забрасывали лидера “красной” оппозиции красными помидорами!»
Помидорометателей задержали и сперва попытались возбудить против них дело по статье за хулиганство, но под давлением уличной левой молодежи отпустили уже через сутки.
А в ночь на 19 июля того же года кто-то попытался взорвать мемориальную плиту дому Романовых, установленную на Ваганьковском кладбище одной из расплодившихся как грибы монархических организаций. «Попытался» — поскольку начиненная извлеченной из петард взрывчаткой бомбочка лишь слегка выщербила поверхность памятника. Для усиления эффекта неизвестный «террорист» оставил на стене рядом с плитой надпись: «Рабочим — зарплату!» и подписался: «Революционные партизанские группы».
Но самое удивительное заключалось в том, что столь незначительным делом сразу же занялась ФСБ, как и в том, что она нашла и арестовала подозреваемого буквально на следующий день. Им оказался 18-летний Андрей Соколов — активист РКСМ(б) и участник «помидоринга» Зюганова.
«Мы с ним познакомились случайно, — вспоминает Лариса Романова, — когда вылезли со сквота поглазеть на митинг каких-то хоругвеносцев. Видим, они бьют паренька, а тот ломает их флаг. Паренька отбили и привели к себе на сквот. Это и был Соколов, который шлялся по центру, увидел имперский флаг, взбесился и выхватил его. Ну и сам огреб люлей, ясно дело».
Соколов был типичным представителем тех самых «молодых недовольных», о которых говорилось в самом начале — талантливый ребенок из распавшейся семьи, забытый своими родителями. Вместо высшего образования ему пришлось устроиться в пекарню, чтобы помогать старшей сестре. Смены длились по 12–14 часов под бубнеж хозяина про то, что «никакого профсоюза у вас не будет, кому не нравится — можете увольняться». В том, что в такой обстановке домашний мальчик с обостренным чувством справедливости стал радикальным левым, нет ничего удивительного. Но в тихом омуте водились черти: у Андрея было весьма необычное и порядком напрягавшее окружающих хобби — взрывать и поджигать. Еще в детстве он постоянно мастерил какие-то дымовухи, самодельные ракеты и тому подобные штуковины. Таким его и запомнили товарищи по РКСМ(б) — как человека, который пек для партийных сабантуев вкусные булочки в виде серпа с молотом, несся на митингах впереди колонны и разбрасывал вокруг себя петарды, наводя ужас на милицию и «зюгановских бабушек».
Для ФСБ Соколов был идеальным кандидатом на роль мастера «динамитного цеха» то ли у «Новой Революционной Альтернативы», то ли в «Реввоенсовете». И обвинение ему предъявили по самой тяжкой статье из возможных — 205, ч. 2, «терроризм в составе организованной группы». Вот только в процессе раскрутки дела возникло несколько существенных неувязок.
Для начала устройство, взорвавшееся на Ваганьковском, было гораздо слабее, чем даже поделки НРА, и не шло ни в какое сравнение с тем, что использовали подрывники РВС. А во-вторых, уже на суде всплыли неприятные факты — оказалось, что ФСБ поставила телефон Соколова на прослушивание еще за две недели до акции.
Андрей Соколов в зале суда
До 2000 года прослушка без санкции суда и прокуратуры являлась уголовным преступлением, а полученные таким образом сведения не считались доказательствами. Более того, получалось, что оперативники ФСБ, зная о взрыве на Ваганьковском заранее, ничего не сделали для того, чтобы его предотвратить. А это уже граничило с провокацией.
В защиту Соколова поднялась мощная общественная кампания. Тем более что, как он сам говорил на следствии, его поступок был продиктован отнюдь не ненавистью к династии Романовых, а желанием привлечь внимание к проблеме невыплаты зарплат. Ну и сам факт того, что ФСБ может без всяких санкций вести прослушку любого представителя легальной политической организации, шокировал и разозлил очень многих. Процесс пришлось проводить в закрытом режиме, а приговор вышел совсем уж позорным — Соколова все-таки сделали террористом, но дали ему только четыре года, то есть ниже нижнего предела по 205-й статье.
Адвокатом Соколова был все тот же Маркелов, и отступать он не собирался. Помогло кассационное обращение в Верховный суд — там секретность с дела сняли, после чего на повторном процессе удалось добиться переквалификации сперва по статье «вандализм», а затем как «нанесения ущерба чужому имуществу». 26 марта 1999 года Андрей Соколов вышел на свободу. 21 июня 2000 года его снова арестовали — на сей раз по делу НРА. В течение десяти суток его избивали пластиковой бутылкой с водой, пытали удушением в противогазе и ударами электрошоковой палкой по ногам, но добиться признаний о причастности к НРА и к подрыву приемной ФСБ следователям так и не удалось. Затем его отпустили, а вскоре задержали еще раз, подбросили оружие и патроны и осудили на 5,5 года общего режима.








![Главные проблемы российского общества [список, анонс длиннопоста] Политика, Социальные проблемы, Анонс, Радикализм](https://cs10.pikabu.ru/post_img/2019/12/23/8/157710669215926568.jpg)