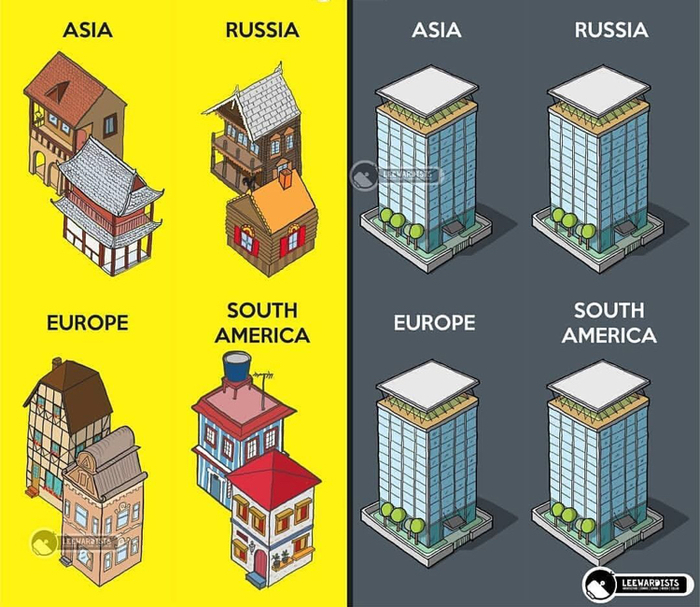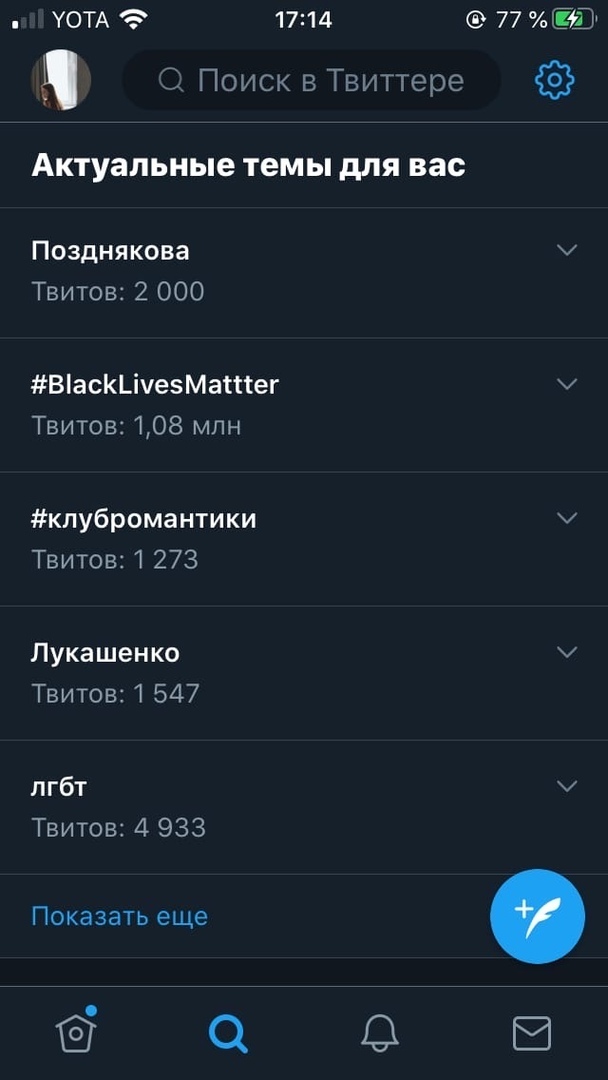Третья башня Америки1
В докладе Гарвардской школы бизнеса (сентябрь 2016 г.), посвященном исследованию конкурентоспособности США, особо подчеркивалось, что
«дисфункциональная американская политическая система является сегодня самым главным препятствием на пути США к экономическому прогрессу».
Президентские выборы, словами В.В. Набокова, «со стеклянной ясностью» выявили не только высокий порог недоверия к лидерам и неспособность обеих партий к компромиссам, не просто отсутствие элитного консенсуса, но жесткое противоборство – своего рода «холодную войну» трех ведущих групп власти и влияния (alter ego разных Америк), совокупность которых представляет современные США.
Первая Америка – это Уолл-стрит, бюрократический Вашингтон, Чикаго и Лос-Анджелес. Это Соединенные Штаты одного процента жителей, Америка банкстеров – хозяев эмиссионных центров, банков, хедж-фондов, страховых компаний, инвестиционных центров. Это «продавцы воздуха», которые концентрируют в своих руках огромные финансовые ресурсы.
Если реальная мировая экономика (включая сферу услуг) составляет в денежном измерении 80 трлн долл., то мировой финансовый рынок – 800 трлн долл., а с деривативами – один квадриллион. Эти цифры даже не поддаются осмыслению! Подавляющая часть этих средств управляется и распределяется американскими банками.
Помимо чистых спекуляций и надувания финансовых пузырей «в первой декаде нашего века банки Уолл-стрита предпочитали инвестировать в продвижение уже проверенных технологий за пределами США или вкладывать капиталы в недвижимость. Они не хотели дожидаться, пока вложения в более рискованные технологии следующего индустриального цикла принесут плоды».
Выразителем интересов Америки «ссудного процента» была Х. Клинтон.
Вторая Америка – это позднеиндустриальная подсистема, или Америка корпоратократии, представителей отраслевых ТНК, порожденных второй промышленной революцией. Это владельцы и топ-менеджеры преимущественно нефинансовых и невысокотехнологичных, но именно производственных предприятий. Их представляет Дональд Трамп. Его поддерживает капитал, работающий в промышленности (в том числе, в ВПК), строительстве, сфере услуг и вступившее с ним в союз подавляющее большинство американцев, имеющих преимущественно европейских предков. Это так называемая старая добрая белая Америка, Америка «ржавого пояса».
Противоречия между этими элитными группами формировались десятилетиями и достигли своего пика в 2016 году. Как отмечает американский аналитик Дж. Куртц,
«финансовая плутократия не сможет осуществлять действенное руководство в глобальной конкуренции между великими державами, прежде всего в силу ее пренебрежительного отношения к созданию сбалансированной промышленности в самих США. Второй фактор – это ее чрезмерная привязанность к мировой резервной валюте. Третий фактор заключается в том, что финансовая элита предпочитает малые войны и поддержание порядка в своей империи тому, чтобы готовить стану к сдерживанию других великих держав и большим войнам».
При таком подходе промышленники и военные оказываются в явном накладе. Более того, именно военные первыми увидели еизбежную конфронтацию с Китаем. Поэтому они выступают за сильную Америку внутри нее самой.
Однако картина элитных противоречий будет неполной, если не сказать о третьем сегменте современной Америки – формирующейся последние 40 лет фракции «когнитариата» (от cognito – познание; словообразование по образцу термина «пролетариат»), Америке цифр, алгоритмов, «гикономиксов».
Своего кандидата в 2016 г. эта часть США не выставила. Несколько лет назад корпорация РЭНД, Токийский университет и Европейский центр оценки технологий выпустили доклад «Технологическое развитие 2025». Обращает на себя внимание следующий вывод: в мире существует 24 критические технологии. Те, кто обладает всеми этими технологиями, смогут осуществить новую технологическую революцию, запустить новую экономику. Так вот, у американцев сейчас есть 21 готовая технология, у японцев – 17, у ЕС – 14 (сколько у России, никто не знает). Иными словами, время «нетократов» пока не пришло. Однако это еще не все, что заставило «элиту знаний» устраниться от выборов-2016.
Анализ высказываний владельцев и советников крупнейших IT-компаний и компаний, связанных с критическими технологиями, позволяет заключить, что четыре года назад они не просто ожидали, но были уверены: в ближайшем будущем Америку и мир в целом поразит мощнейший кризис, в сравнении с которым события 2007-2009 гг. покажутся «улыбкой истории».
Поэтому они и не хотели в критический момент возлагать на себя бремя власти – бремя ответственности. Логичнее использовать кризис для ослабления и устранения финансовой элиты. Однако они не просто ждали. Начиная с 2016 г. они формировали союз «гикономиксов» с наиболее продвинутой частью корпоратократии против банкстеров. Время и технологии работают против последних. Отступать им некуда, поэтому на чащу весов власти брошен весь их американский и глобальный ресурс, а потому «элитная» война, местами холодная, идет не на жизнь, а на смерть и все активнее переходит в войну горячую. Иначе как назвать то, что творится на улицах американских городов, когда вырвавшиеся из трущоб орки не только громят магазины, жгут машины и убивают людей, и требуют поклонения?
Предвыборная кампания 2016 года запустила процесс переоценки места, роли и возможностей США. И дело не в личности Трампа – американским элитным группам необходимо определиться в выборе новой парадигмы. Защищать ли всю созданную ими глобальную систему – вспомним слова Г. Киссинджера, сказанные во время лекции в Дублине в 1999 г.: «глобализация – просто другое название господствующей роли Соединенных Штатов», стремительно прогрессирующую к «Новому Средневековью», либо спасать только ее часть, непосредственно интегрированную с Америкой, грубо говоря, англосаксонский мир.
За первый вариант выступают банкстеры. Ко второму – склоняется «коллективный» Трамп.
Величие Америки в понимании последнего – «ни в коем случае не глобальная ответственность, а способность показать всем пример успеха (очень в духе отцов-основателей), никому ничего не навязывая, а также демонстрация силы на случай, если этого требуют национальные интересы США» .
Таким образом приход Трампа в большую политику вовсе не означал отказ американского истеблишмента от завоеванного посредством «жесткой» и «мягкой» силы.
Кто победит и какой станет Америка?