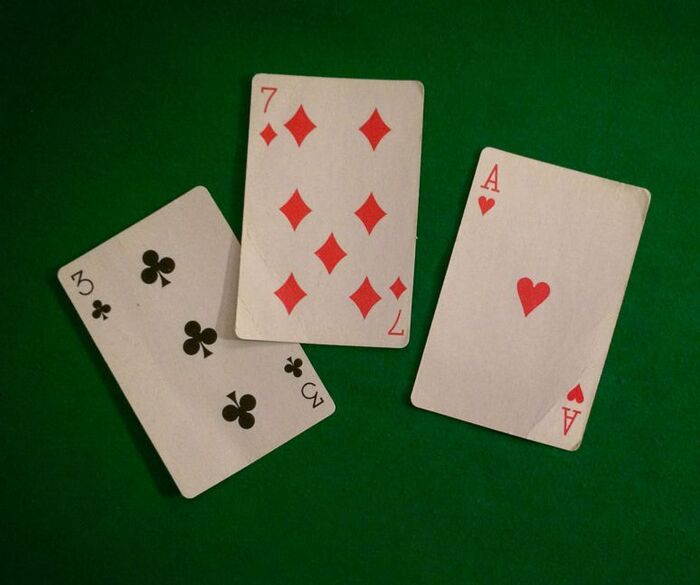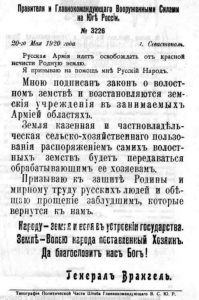О гусарстве, как о социальном лифте
Для ЛЛ: служить в гусарах не только красиво, но и шанс продвинуться по социальной лестнице у рядового гусара значительно выше, чем в прочих видах и родах оружия. Если не убьют, конечно.
Ментики, кивера... Оно для боя и для парада. На балах, в театре, прочих мероприятиях мирного времени офицеры-гусары были обязаны появляться в виц-мундирах (которые у гусар, в целом, не отличались от егерьских) и треуголках. Ил. из труда Ю. Ельца.
В любом абсолютистском сословном государстве, каким и являлась Российская Империя вплоть до февраля 1917, социальных лифтов не слишком много. Главным из них является военная служба.
Пётр Великий, с одной стороны, крепостник в доску, а, с другой - он вывел из крепостной зависимости около 350 000 человек, просто сделав их рекрутами. Рекрут хоть, по-прежнему, человек подневольный, но уже — «человек государев», подушной подати не платит, а сам получает жалование. Перепись и последовавшая «подушная», собственно, для его жалования и задумывалась:
«...собрать сказки и расписать на сколько душ солдат рядовой с долей на него роты и полкового штаба положа средний оклад»!
Некоторые былые рекруты ухитрялись военную службу пережить. Отставной солдат имел куда большую свободу манёвра, чем крестьянин: мог остаться на службе по найму (почтари, ямщики, будочники, дворники, а старший дворник - это младший полицейский чин, между прочим) или в инвалидной команде; мог вернуться на родину (если было к кому, редко крестьянствовали даже получив землю, чаще занимались ремеслом); отставников весьма охотно уже тогда нанимали в сторожа, смотрители, надзиратели, приказчики и т.д. Отставник не платил подушную подать, никакого тягла не нёс. Это особенная межсословная категория. В случае дряхлости отставники даже получали небольшую пенсию (с 1845).
К тому же (и это самое главное!) за время службы у каждого рекрута был некоторый шанс радикально сменить сословное положение. При Петре, изначально, первый обер-офицерский чин - это потомственное дворянство (с 1845 всё до полковника - личное, но офицер-то может и орден получить, а это уже - потомственное). Чем чёрт не шутит?
Шанс - он потому и шанс, что выпадает достаточно хаотично, но, что характерно, вместе с Имперским строительством и упорядочением этот шанс регламентировали, а, значит, постепенно из хаоса вывели в систему… Окончательно эта система сложилась к периоду Наполеоновских войн и, в дальнейшем, только шлифовалась. Система действовала по всей армии, но в этой системе социального продвижения особняком стоят гусарские и уланские полки из-за особенностей их формирования и службы.
Важно отметить, что гусарские и уланские полки комплектовались преимущественно на добровольной основе.
Все гусарские полки имеют либо белорусские, либо украинские корни, за исключением Иркутских гусар 1812 года, но они стоят особняком. Они, хоть и гусары, но драгуны, и хоть Иркутские, но, скорее, московские. Так получилось. Всего к декабрю 1812 — 13 полков (из них 1 гвардейский). В 1824 будет сформирован ещё л-гв. Гроденский гусарский, как преемник армейских Гроденских гусар. Старый Гроденский (переименован в «Клястицкий» в честь замечательного боя 1812 года) и л-гв. Гроденский гусарские полки будут показательны в наших рассуждениях в силу того, что хоть они и относятся к разным эпохам, хоть один армейский, а другой гвардейский, между ними сохранена преемственность (около трети л.-гв. гроденцев «первого созыва» - «старые» армейские гроденцы, переведённые в гвардию с сохранением чина, что всегда считалось поощрением).
Губернии Екатеринославская и Новороссийская, где проживали потомки первых русских «поселённых» гусар, то есть сербов, венгров, хорватов, словаков, давали немалое число рядовых в гусарские полки александровской эпохи. Казаки из Черниговской, Полтавской и Киевской губерний, потомки липок (служилых татар), польско-литовская шляхта, чье дворянство, по выражению Дуровой, служившей в Конно-Польском полку, «было легко, как пух». Шли в гусары и мещане из городков вроде Толочина, Ружан, Нежина, Козельца, Пирятина, Бахмача, Миргорода, чьи предки также принадлежали к казакам или липкам. Значимой группой поступавшей на службу были казённые («экономические») крестьяне. Были и крепостные (чаще всего, шли в придачу к «своему» офицеру, поступавшему в полк). Замечательно, что в особо выдающихся случаях, в гусары посылали и беглых солдат…
В «Истории 8-го гусарского Лубенского полка» И. Бурского (книга издана в Одессе в 1912 году) особо отмечено, что:
«… При этом унтер-офицеры и офицеры, проводящие вербунок, должны были следить, чтобы в число новобранцев не попали крепостные или беглые помещичьи крестьяне, но только мещане, вольные хлебопашцы, вольноотпущенники, шляхтичи Минской и Литовской губерний, разного другого состояния люди».
Перед Отечественной войной 1812 года в военном министерстве всех гусар сосчитали самым тщательным образом. В 11 армейских гусарских полках по штатам должно было быть 16 280 рядовых. Кроме рядовых, в воинских частях имелись и унтер-офицеры, и офицеры, и трубачи, и нестроевые, и мастеровые. Например, штатная численность унтер-офицеров во всех армейских гусарских полках достигала 1430 человек. Трубачей-гусар было 352 человека. В каждом легко-кавалерийском полку по штатам 1810 года должны были служить 82 штаб- и обер-офицера.
Штаб-офицер л.-гв. Гусарского полка в парадной и рядовые в парадной и рабочей форме. Не только доломан, но и шинель. Не только кивер, но и фуражка. Литографический альбом рисунков обмундирования Лейб-гвардии Гусарского полка П.В. Алабьина. 1870.
Унтера и юнкера нас тут интересуют особенно.
Унтера — становой хребет армии. Без преувеличения. Если перелистать страницы павловского «Воинского Устава о полевой Гусарской службе», то истинный масштаб этой фигуры проступает ярко и полно. Должен был знать всё и чуть больше уметь. Унтер-офицер - первый и ближайший к солдату строевой чин.
По штатам от 17 декабря 1803 года в 10-эскадронном гусарском полку с 1 запасным эскадроном должно было состоять 11 вахмистров (фактически - зам.ком.эскадрона по строевой), 11 квартермистров (старшин) и 90 младших унтер-офицеров. Т.е. потребность в унтерах была значительная. Это понимали.
Полагали, что освоить все эти обязанности кандидат в унтер-офицеры мог в течение не менее чем четырехлетнего пребывания в рядовых, наблюдая за порядком службы в полку, но если рекрут был грамотен, он мог рассчитывать на произведение в младшие унтер-офицеры уже через два года «безпорочной службы». Специальных учебных заведений для унтер-офицеров до 1809 года в русской армии не имелось. Лишь по инициативе цесаревича великого князя Константина Павловича был учрежден Учебный кавалерийский эскадрон в Санкт-Петербурге в количестве 200 рядовых и 180 строевых лошадей для подготовки унтер-офицеров и трубачей для конных полков. Брали в него кантонистов, с детства привычных к военным порядкам. Кантонисты (солдатские дети, сироты на воспитании у полков, дети военных поселян) - это народ особый, на них у государства особые и виды. Обучали в течение года. Каждый год эскадрон отправлял в полки по сто своих выпускников. Для заполнения всех вакансий этого, конечно, не хватало, и в полках унтер-офицерами служили в основном люди, имеющие многолетний военный стаж, выходцы из всех сословий.
А. Бегунова обработала данные Александрийского гусарского полка. В полку на 1 января 1805 года числилось: 11 вахмистров, 2 каптернамуса, 11 квартермистров и 90 младших унтер-офицеров. Из солдатских детей происходили 26 человек, из унтер-офицерских детей - 5 человек, из обер-офицерских детей - 2 человека, из купеческих детей - 1 человек, из духовенства - 1 человек. Остальные 80 человек были «нации малороссийской из воинских поселян». Возрастные границы от 20 до 42 лет. Грамотных из 115 - 60 человек (что сильно выше среднего по армии). 17 состоят в браке и имеют детей.
Самым молодым унтер-офицером на тот момент числился Иван Иванович Шалыгин, 20 лет от роду, «из солдатских детей Тульской губернии уездного города Белева». Он поступил в гусарский генерал-майора Чорбы полк в мае 1799 года рядовым, а в декабре уже произведён в унтер-офицеры. В 1801 году его перевели в Александрийский гусарский полк. Грамотен, окончил школу кантонистов, холост, но за какие особые заслуги его наградили чином унтера всего через полгода службы (это в 15 лет-то!), в формулярном списке не сказано.
Впрочем, требование Устава:
«...не представлять в унтер-офицеры таких рядовых, которые четырех лет не выслужили и в поведении не испытаны…» -
нарушалось сплошь и рядом. Производили в этот чин и гораздо раньше и гораздо позже означенного срока, смотря по решению полкового командира. В военное же время, при поступлении пополнения, всех вообще оставшихся в строю рядовых, прослуживших к этому времени хотя бы два-три года, производили в унтер-офицеры, чтобы сохранить преемственность в боевых традициях части.
Зато другой пункт Устава, наиболее интересный для наших рассуждений, соблюдался, в мирное время, неукоснительно. Сформулирован он был так:
«Из недворян унтер-офицеры производимы в корнеты быть могут, но те только, которые отличные способности и достоинства действительно окажут и двенадцать лет в унтер-офицерстве рачительно и без малейшего порока выслужат и при всем том не безобразны будут…»
Как правило, в мирное время недворян производили в офицеры из чина вахмистра. Чин вахмистра - ближайшего помощника командира эскадрона по строевой подготовке, внутреннему распорядку и хозяйственным делам - являлся высшей ступенью в унтер-офицерской иерархии. Если вахмистр мел право на переход из одного сословия в другое, это право отражалась в его формулярном списке в графе «к повышению достоин». Записи в графе соответствовали положению Устава о необходимой для производства в офицеры 12-летней выслуги и содержали оценки служебной деятельности кандидатов, поощрения и награждения.
Л.-гв. Гусарского полка штаб-офицер в походной, рядовой в походной и юнкер в парадной форме обр. 1856 года. Литографический альбом рисунков обмундирования Лейб-гвардии Гусарского полка П.В. Алабьина. 1870.
Из 11 вахмистров Гроденского гусарского на 1806 год такую пометку имели 9 (двое не выслужили срок). Полк только сформирован, бывалые унтера пришли в основном из Изюмского, Сумского и Ахтырского полков. Впереди был 1807 год.
Боевое крещение полк прошёл при Пресиш-Эйлау. Полк понёс большие потери, но и награждали щедро: два вахмистра и два юнкера полка были произведены в корнеты («за отличие»). Финская (1808-1809) компания дала ещё 8 производств (2 юнкера, 1 вахмистр, 5 унтеров). Клястицы дали 33 знака отличия Военного ордена и 10 производств (5 юнкеров, 2 вахмистра, 3 унтера). Особо отмечу, что ордена св. Георгия 4-го (а, значит и потомственного дворянства) за Клястицы удостоен бывший ещё в Финляндии юнкером, а теперь поручик П.А Цытлядзев (под Данцигом попадёт раненым в плен, что несколько помешает карьере, но в 1815 году уже штаб-ротмистром переведён в Лубенский гусарский полк). В целом, за компанию 1812-1814гг. - ещё около 40 производств! Очевидно, что при этом уставные сроки выслуги в унтер-офицерских чинах неизбежно нарушались, производства проводились «за отличие», в качестве особого поощрения, ну и убыль младших офицеров в лёгкой кавалерии была весьма значительна.
Собственно, гусары стали кузницей обстрелянных кадров обер-офицеров для других кавалерийских полков в силу того, что комплектовались они преимущественно на добровольной основе, людьми лично свободными, зачастую - грамотными (…«умеет читать и писать по-русски, по-польски и по латыни, в счёте горазд», но это исключение, конечно...), что облегчало получение унтер-офицерского звания, а особенности гусарской службы давали возможность проявить инициативу и отличиться. В остальной армии всё гораздо сложнее.
Особо скажем о полковых юнкерах и портупей-юнкерах в лёгкой кавалерии. Это кандидаты в офицеры, унтер-офицеры замещающие офицерскую должность. Юнкеров может быть 10-12 человек на полк. При поступлении в полк юнкер должен был «для познания службы» три месяца служить рядовым, но носил при этом унтер-офицерский мундир. Право на производство в офицеры юнкера имели, согласно положению Устава, только после трехлетней выслуги. Теоретически - из дворян. Но, по документам некоторых легко-кавалерийских полков видно, что чин юнкера и портупей-юнкера был одной из ступеней служебной лестницы, ведущей к производству в офицеры не только для молодых российских дворян, но и людей иных сословий.
Типичными записями в формулярах Гродненских юнкеров являются:
«...из польского шляхетства Витебской губернии Полоцкого уезда, крестьян за его отцом не имеется, доказательств о дворянстве не представил»,
или даже:
«...из польского шляхетства Австрийской короны Львовской губернии Замостского уезда, за отцом его крестьян не имеется, доказательств о дворянстве не представил».
Многие из них поступали в полк рядовыми, получали унтерский галун, и только затем, через два-три года, становились юнкерами-кандидатами в офицеры. При этом, портупей-юнкер заместивший офицера «в деле» после выбития того - становился корнетом автоматически.
В мирное время всё конечно сложнее, но и тут гусарская служба давала некоторые преимущества. Примером тому является преемник старых Гроденцев, л.-гв. Гроденский гусарский полк.
Замечательную двухтомную историю составил ротмистр л.-гв. Гроденского гусарского полка Юлий Елец в 1897 году (для эстетов, кста есть в репринте тут , а в электронке на руниверсе). Он отмечает, что документы полка до 1831 года практически полностью были утрачены в ходе возмущения Варшавы, где полк квартировал, но так даже показательнее, потому что именно польское восстание станет для молодой части боевым крещением. Работа Юлия Ельца содержит записи о 519 офицерах полка с 1824 по 1897гг.
12 корнетов полка 1824 года — из юнкеров и унтер-офицеров переведённых с повышением из частей Литовского корпуса. В 1825 — таких корнетов семь. В 1826 — в полку появляются уже корнеты собственного производства: трое из унтер-офицеров по выслуге, семь — из юнкеров. В дальнейшем полк будет держать планку около 2-5 производств в год вплоть до военной реформы 1874 года, когда «старые николаевские унтера» окончательно уйдут в область преданий. Офицеры из недворян будут переводится чином корнета в армейские полки, корнеты из бедных дворян то же долго задерживаться не будут. Служить офицером в гвардии - дорого. Впрочем уже после событий 1830-1831гг. вакансии обер-офицеров будут замещаться преимущественно выпускниками гвардейской школы подпрапорщиков, переводами из армии и других гвардейских частей, позже - выпускниками Николаевского училища и пажеского корпуса (часть-то гвардейская). После получения полком прав Старой гвардии резко изменятся и правила комплектования полка, где простолюдинам среди юнкеров уже не будет места.
Насколько можно судить, последними офицерами из недворян в полку будут (произведены за 1877-1878гг.):
«Корнеты Цветков и Ершов произведены в этот чин из унтер-офицеров состоящих в 3-м разряде по образованию, за отличия в делах против неприятеля с зачислением в 5-й гусарский Александрийский полк и первый, состоя в нижнем звании, получил знак отличия Военного ордена 4-й степени».
В общем, быть гусаром в Александровско-Николаевскую эпоху не только красиво, но и выгодно. Производство в унтер-офицерские и офицерские чины в гусарах зачастую шло по ускоренной программе. И да, даже рядовому гусару было очень желательно быть грамотным, хотя недаром авторы павловского Устава вскользь замечали в одном из параграфов, что
«способность только к письменным делам… в сравнении со службою во фрунте есть совсем побочное дело…»