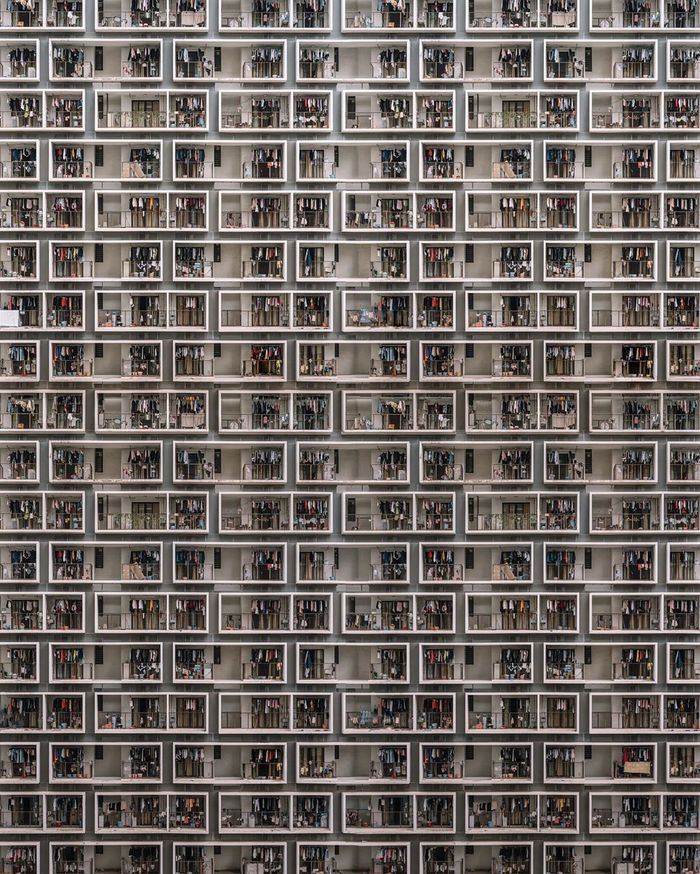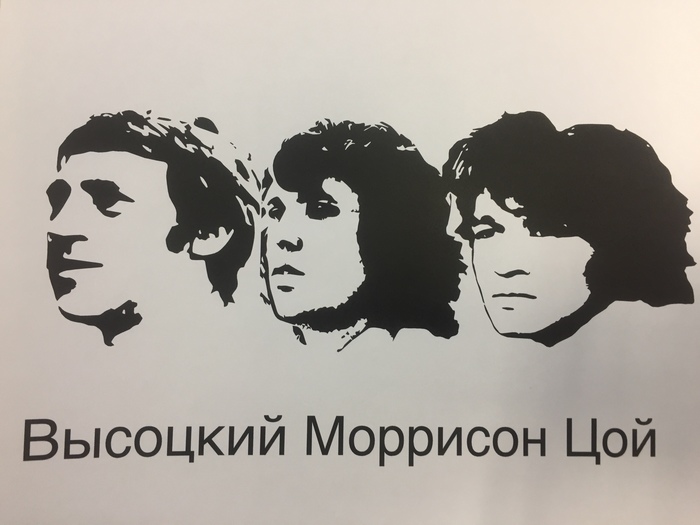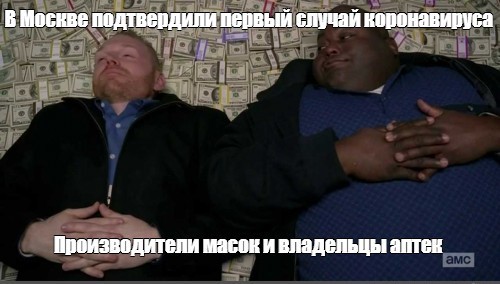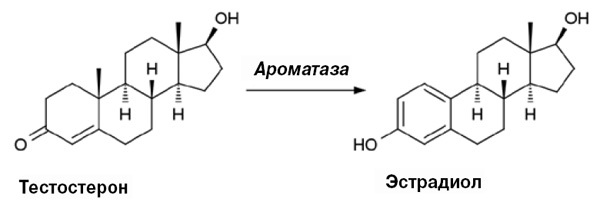ВОЙНА ДЖАМААТОВ.
История кавказского подполья с середины 2000-х — это история войны за веру, наконец освобожденной от демократической и правозащитной риторики. Характерна смена лозунгов Басаева. Еще в 2005 году в интервью он заявил: «Для меня это прежде всего борьба за независимость. Если я не свободный человек, я не могу жить в своей вере. Мне надо быть свободным. Свобода первична. Вот что я думаю. Шариат следует за ней».
Но спустя всего полгода он объявляет, что атака на Нальчик есть «исполнение обязанности вести джихад». Сомнительно, чтобы Басаев на самом деле был религиозным фанатиком, он никогда не обнаруживал какой-то экстраординарной приверженности вере. Скорее, лидер боевиков старался объединить борцов за религиозные идеалы и уменьшающихся в числе сторонников борьбы за независимость.
Между тем в середине 2000-х годов террористическое подполье сильно изменилось. Чечню и вообще Кавказ так или иначе постепенно покинули практически все иностранные моджахеды. Кто-то погиб, кто-то просто уехал, однако парадоксальный факт состоит в том, что кавказское подполье отказалось от националистических лозунгов в пользу религиозных, но само по себе стало уже не слишком нужным мировому джихадистскому движению. Кроме того, подполье менялось изнутри. Командиры первого поколения или были убиты, или очутились в тюрьмах, или перебежали на службу к Кадырову. То же самое касается рядовых бойцов.
К тому же радикально изменилась география конфликта. Первая война почти целиком велась на территории Чечни. Начальный период второй кампании шел не только в Чечне. Теперь же борьба связывалась не столько с Чечней, сколько с Ингушетией, Кабардино-Балкарией и Дагестаном. В подполье массово приходили молодые люди, никогда не знавшие не то что Дудаева, но даже Гелаева или Хаттаба. По сравнению с началом 2000-х годов средний возраст боевиков сильно упал.
Важный момент: религиозная повестка сочеталась с социальной и даже экономической. Основным источником пополнений стали люди, так или иначе находящиеся на обочине жизни. Коррупция в республиках Кавказа приняла грандиозные масштабы даже в сравнении с неблагополучной ситуацией в России в целом, а легальной хорошо оплачиваемой работы оказалось крайне мало — опять же, даже на общероссийском безрадостном фоне. Характерна реплика одного из дагестанцев:
В хороший вуз можно поступить за $7–10 тыс. Для нас это запредельная сумма. В России, где, говорят, еще можно поступить за знания, тоже шансов никаких. Какие знания, если в наших школах преподают выпускники наших же вузов? Старшая дочь учится в 9-м классе: я недавно попросил ее назвать химическую формулу воды — она не знает. (…) Уехать на заработки в Россию и унижаться там перед каждым полуграмотным сержантом? Я для этого не так воспитан. Но я-то ладно, я и в грязном контейнере постою, а что прикажете делать с детьми?
Для диковатых и чаще всего бедных парней террор казался прямой дорогой к славе, деньгам и исправлению мира. Некоторые разочаровывались, но спуститься с гор такой боевик мог далеко не всегда: внизу его ждали следствие и суд с перспективой провести лучшие годы за решеткой, а то и пуля от бывших товарищей. Такие быстро погибали, но на их место уже находились новые кандидаты, очередные идеалисты с сельской школой за плечами и без перспектив впереди. Население к этой публике относилось без особенного восторга, однако «лесные братья», с одной стороны, происходили из того же общества, и по-прежнему оставались чьими-то сыновьями и братьями, а с другой, могли и убить за слишком близкое общение с правоохранителями.
Наконец, сильно изменилась тактика террористов. При активном участии Басаева сложилась новая структура отрядов, которая дала кавказскому подполью его последний импульс. Боевики перешли к герилье группами всего из 3–5 человек, а их основной мишенью перестали быть армейские отряды. Теперь борьба велась в основном с помощью подрывов и убийств конкретных силовиков, чиновников и представителей традиционного духовенства.
Такая война приводила к меньшему числу жертв со всех сторон, но сильно била по управляемости республик Кавказа. Классический террор сохранялся, но отступал на второй план. Поначалу террористы пытались активно действовать в крупных городах, но вскоре, когда подполье возглавлял уже Доку Умаров, центр приложения усилий сместился в более глухие горные районы.
ДАГЕСТАН.
Изменился и способ финансирования джихада. Если в начале 2000-х боевики пользовались деятельной поддержкой с Ближнего Востока и вообще из-за рубежа, то к середине 2000-х энтузиазм жертвователей в основном иссяк, а часть каналов снабжения русские перерезали. В такой ситуации боевики обратились к самым банальным способам добычи денег: вымогательство (рэкет подавался как сбор закята, мусульманского налога в пользу нуждающихся), похищение людей ради выкупа, просто вооруженный разбой. Причем такие акции могли совершаться под видом милиционеров или ФСБшников.
Война распространилась на весь Северный Кавказ. Теракты стали микроскопическими, зато происходили постоянно. Налеты, убийства, подрывы следовали один за другим с удручающей частотой. Иногда бандитам доставались даже запасы оружия. Скажем, один из самых удачных налетов совершил пресловутый джамаат «Ярмук», весной 2005 года. Отряд из восьми террористов вошел в дежурную часть Госнаркоконтроля в Нальчике. Застрелив наркополицейского, боевики заставили еще троих офицеров загрузить в свою машину автоматы и пистолеты из арсенала и патроны к ним, а потом убили.
Однако настоящей приметой времени стали адресные ликвидации террористических ячеек в городах. Население настолько привыкло к спецоперациям, что воспринимало их как часть фона: «У меня тут прямо сейчас на соседней улице террористов в сортире мочат, БТР из пулемета шмаляет», — флегматично замечал махачкалинец на местном форуме.
Так, например, в 2006 году был убит один из последних арабских террористов Абу Хавс. Его нашли благодаря работе с агентурой и пленными. Частный дом, где находились араб и четверо его товарищей, блокировали, после чего отряд спецназа ФСБ пошел на штурм. Ворота выбили из гранатомета, а затем штурмовая группа въехала во двор на бронированном автомобиле. У убитых нашли «расстрельный список» с данными дагестанских милиционеров и офицеров ФСБ. Такие операции — на стыке полицейской и военной работы — становились всё более аккуратными. По контрасту с жесточайшими войсковыми боями в Чечне 1999–2000-х, банды 2000-х зачастую уничтожали хирургически, сохраняя жизнь всем, кого вообще имело смысл оставить в живых.
Для примера приведем хронику февраля 2007 года в Дагестане — в качестве обычного произвольно взятого месяца в одной из республик (сводка составлена ресурсом «Кавказский узел»):
3 ФЕВРАЛЯ.
Совершено покушение на главу МВД республики Адильгерея Магомедтагирова. В 22.40 на пульт дежурного МВД поступило сообщение об убийстве сотрудника следственного управления при МВД Дагестана 27-летнего Максуда Магомедова. Министр не стал дожидаться служебного транспорта и выехал на место вместе со своим братом на его машине. Бронированная Toyota Land Cruiser министра выехала с задержкой в несколько минут. В 23.10 внедорожник был взорван в 300 м. от места убийства милиционера: сработали два взрывных устройства общей мощностью 15 кг в тротиловом эквиваленте. Находившиеся в джипе водитель ОМОНа при МВД республики прапорщик Алексей Жданов и старший оперуполномоченный по особо важным делам управления собственной безопасности МВД по Дагестану Магомед Османов, погибли.
10 ФЕВРАЛЯ.
В результате теракта на обочине дороги, ведущей из Буйнакска к полигону 136-й мотострелковой бригады у селения Герей-Авлак, были убиты двое и ранены пятеро военнослужащих Минобороны России. В засаду механики-водители танков попали, когда возвращались в часть с курсов молодого бойца. Мощность взрывного устройств составляла три килограмма в тротиловом эквиваленте. Сразу после взрыва неизвестные с двух точек обстреляли солдат из автоматов.
За сутки до взрыва прихожане буйнакской мечети обнаружили листовки с «Обращением группы Темирханшуры „Сейфулла“ джамаата „Шариат“ к жителям Дагестана». Всех, кто служит в силовых структурах или поддерживает их, авторы листовки объявили «врагом Аллаха».
12 ФЕВРАЛЯ.
Мужчина и молодая женщина, подозреваемые в пособничестве боевикам, задержаны в городе Буйнакск. В квартире девушки были обнаружены тротиловая шашка, электродетонатор и бикфордов шнур. Задержанных подозревают в обеспечении боевиков продуктами и одеждой. Они проверяются на причастность к совершению теракта в отношении группы военнослужащих 136-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны.
28 ФЕВРАЛЯ.
В поселке Тюбе Кумтуркалинского района Дагестана силами спецназа ФСБ и МВД при поддержке бронетехники проведена операция по уничтожению боевиков, засевших в одном из домов. В ходе операции ликвидированы двое боевиков. Один из убитых — Даудгаджи Магомеднабиев, 1982 г.р. Имя второго неизвестно, спецслужбы располагают лишь его кличкой — «Гамзат». Еще двое боевиков — Дайгиб Макашарипов и Залимхан Гусейнов сдались работникам милиции. В ходе операции неопасное для жизни ранение получил один сотрудник СОБРа.
Одна из важнейших особенностей нового поколения боевиков — по сравнению с «лесными братьями» самого конца 90-х и начала 2000-х они были гораздо хуже подготовлены. Костяк отрядов Басаева, Хаттаба и Гелаева в 1999 и 2000 годах составляли великолепно обученные террористы, способные вести с русскими жесточайшие кровавые бои. Пришедшие им на смену фанатики не имели требуемых навыков, и когда-то выполнимые задачи стали для них нерешаемыми. Характерный пример дает нападение на Нальчик в октябре 2005 года. Эта диверсия проводилась джамаатом «Ярмук» под командой Анзора Астемирова, общее руководство осуществлял Басаев. Боевики планировали самое крупное выступление за долгое время, но все пошло не так, как ожидалось.
13 октября вооруженные отряды ворвались в Нальчик и атаковали сразу дюжину объектов в городе, включая управление ФСБ, оружейный магазин, аэропорт, погранотряд, милицейские отделы, ФСИН и базу ОМОН. Акция задумывалась по тому же принципу, что и нападение на Ингушетию в 2004 году. Однако уровень планирования оказался куда ниже.
Первые сбои начались еще до атаки: контрразведка изловила курьера с деньгами для закупки раций и прицелов. Басаев и эмир Кабардино-Балкарии Анзор Астемиров срочно встретились и договорились перенести операцию на более ранний срок. Оружие у них имелось, в городе существовало развитое подполье, нападение выглядело делом техники. Однако прямо перед выступлением начались проблемы с передачей приказов участникам налета. Многие боевики узнали о готовящейся акции всего за несколько часов до нападения, а кто-то познакомился с собственными командирами прямо в ночь перед боем.
Опытных бойцов было буквально два десятка из 217 нападавших, причем треть из этих настоящих боевиков собрали в одной группе, штурмовавшей здание ФСБ. Взаимодействие не было организовано никак, о предварительной разведке объектов речи не шло. Часть боевиков просто разбежалась перед боем, зато некоторые весь день бесцельно колесили по городу с оружием. Отряд, напавший на базу ОМОН, вообще получил автоматы прямо перед штурмом.
Бои в городе в течение дня шли бессистемно. Боевики не смогли полностью захватить ни один объект, а что делать в случае неудачи, так и не решили. Никакого плана «Б» на случай провала они не имели и пытались добиться указаний от Басаева, но тот никаких задач не ставил, а вскоре вообще покинул окрестности Нальчика.
Трое боевиков заскочили в сувенирный магазинчик, захватив в заложники находившихся там женщин, однако вскоре были убиты приехавшими спецназовцами, а заложницы оказались на свободе. Группа, напавшая на один из ОВД, примерно в это же время пыталась уехать из города, прикрывшись заложниками — попытка провалилась. Машина врезалась в дерево, после чего ее благополучно взяли штурмом.
Несмотря на внезапность налета, рейд на Нальчик окончился полным провалом. Силовики понесли тяжелые потери: погибли 35 милиционеров и 15 мирных жителей. Однако в бою полегло 92 боевика. 70 с чем-то террористов схватили и позднее привлекли к уголовной ответственности. Один из самых мощных отрядов подполья разбился о позиции милиционеров и военных и практически перестал существовать.
По сравнению с энергичным и жестоким налетом на Назрань в 2004 году, когда боевикам удалось перебить множество силовиков, включая даже офицеров «Вымпела», захватить оружие и безнаказанно уйти, нападение на Нальчик всего год спустя выглядит просто бездарным. Даже количество бойцов не отвечало задачам: на каждый объект приходилось всего по полтора десятка террористов. Более того, непосредственные командиры не участвовали в нападении. Террористы сочли, что их просто предали, что понятным образом сказалось на боевом духе.
В ближайшие недели спецслужбы задержали или перебили еще нескольких участников этого странного нападения. Так, один из опытных боевиков, Алим Тхакахов, нападавший еще на Назрань в 2004-м, был пойман и убит спустя месяц. Двадцатипятилетний адвокат Казбулат Кеферов несколько дней прятался в лесу, а затем вышел на пост ОМОН, начал стрелять и тут же погиб под ответным огнем.
Однако с разгромом «Ярмука» война не кончилась. Теракты продолжались, их было много. Например, за 2011 год на Кавказе произошло 167 взрывов и терактов, при этом погибли 176 гражданских и 190 силовиков.
Помимо стычек на Кавказе продолжался и классический террор за его пределами — хотя и в меньших масштабах. Террористическая кампания 2004 года истощила силы боевиков в глубине России. Впоследствии им удавалось проводить отдельные теракты, но ни разу — серии нападений, подобные волне смертниц 2003 года или подрывам домов образца 1999-го. Вылазки продолжались, люди гибли, но в целом террор пошёл на спад и утратил систематический характер. Смертники атаковали Владикавказ, в 2010 году вновь взрывали вагоны московского метро, «классические» взрывы самоубийц гремели в аэропорту Домодедово и на вокзале Волгограда. Каждая такая атака приносила море страданий, в некоторых случаях боевикам удавалось убить десятки человек за раз, но в целом эти теракты производят странное впечатление.
Действия Басаева в 1999 и 2002–2004 годах подчинялись четкой логике, легко понять, из каких соображений исходили боевики и чего хотели добиться. Во второй половине 2000-х эти акции, судя по всему, не преследовали никаких целей кроме навязчивой и кровавой попытки продемонстрировать миру собственное существование. Никаких политических дивидендов эти взрывы уже не приносили и даже не могли нанести стране никакого психологического урона. Россия просто устала бояться. После Беслана, «Норд-Оста», Тушино, взрывов домов, вагонов, рынков, отделений милиции, самолетов новые теракты производили слишком мало впечатления.
В смутной обстановке непонятно к чему идущей войны 10 июля 2006 года произошло событие, которого никто уже и не ждал. Погиб Шамиль Басаев.
Автор статьи: Евгений Норин