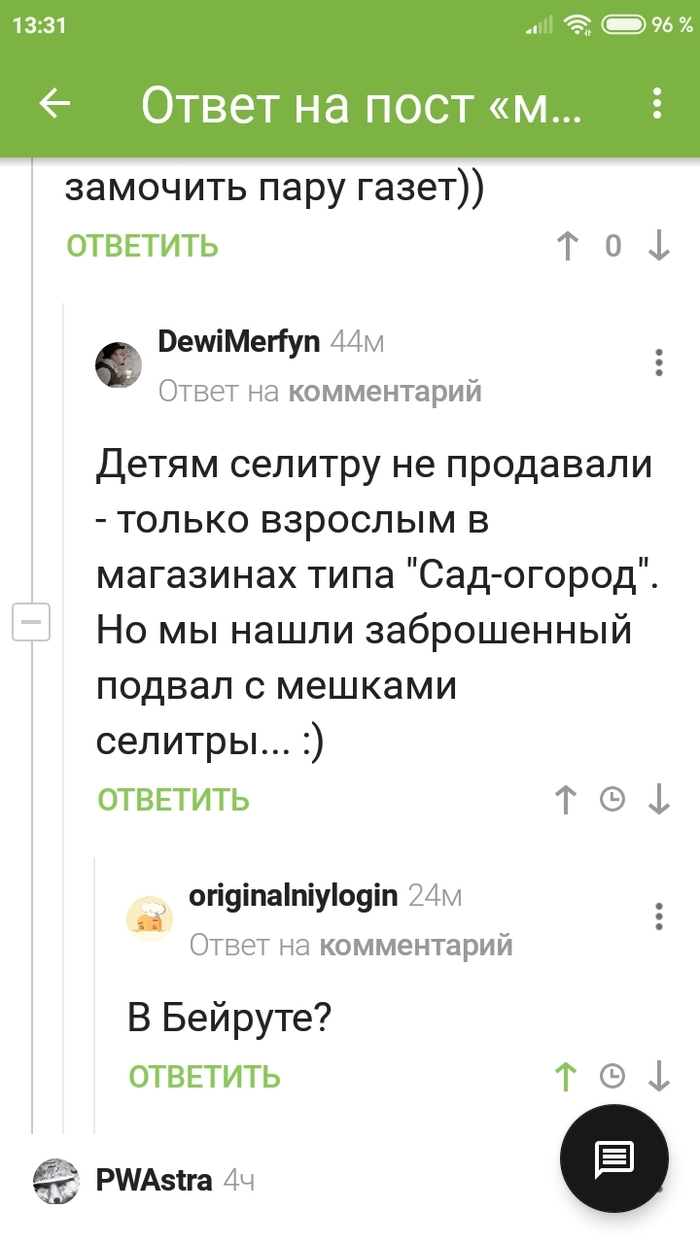Пост посвящен памяти моей мамы, Веры Георгиевны Васильевой. Ее не стало в 2017 году.
Нижеследующий текст она написала в 2011 году после посещения Новодевичьего монастыря по просьбе директора тамошнего музея для готовившейся книги по истории монастыря. Была ли издана книга - к сожалению, я не знаю. Все фотографии - из семейного архива, некоторые из них были мной опубликованы на сайте pastvu.ru., о чем свидетельствуют отметки на соответствующих фото. Основной текст - от маминого имени, комментарии к фото - от моего.
Новодевичий монастырь
Трудно вспоминать жизнь в Новодевичьем монастыре точно по годам, да и времени уже прошло сорок с лишним лет, как мы переехали. Я выезжала одной из последних, так как работала в Городской клинической больнице №61, и мне хотелось остаться в этом замечательном районе.
Со слов моей мамы я знаю, что наша семья получила в 1924 году квартиру в палатах Ирины Годуновой на втором этаже. Мой дед, известный российский и советский педагог профессор Альберт Петрович Пинкевич, был переведен на работу из Петрограда на должность ректора 2-го Московского государственного университета. Ему с большими извинениями предложили пятикомнатную квартиру, где он и поселился с семьей. Дальнейшая же судьба его сложилась так, что в 1937 году он был репрессирован и 25 декабря того же года расстрелян. Реабилитирован он был посмертно в 1956 году.
В 1937 году родилась я, но квартиру у нас к тому времени уже отняли, то есть заселили жильцами, расселенными из здания Исторического музея (семья Лядиных), оставив нам одну угловую комнату.
Палаты Ирины Годуновой (как и на первом фото в центре). Изначально весь верхний этаж был выделен семье А.П. Пинкевича, впоследствии моим родным осталась комнатка с тремя окнами - 2 левых на втором этаже спереди и одно - слева от угла.
Начало войны я помню смутно, но в памяти сохранился образ отца, лежащего на траве возле дома летом 1941 года. Он был слесарем-инструментальщиком высшего разряда на оборонном заводе, расположенном неподалеку в Лужниках, и имел бронь, а поэтому пошел на фронт позднее. Мы же с мамой и старшим братом были эвакуированы с одними летними вещами в Пензенскую область, потом в Свердловск. Много лиха пришлось на нашу долю – голодали, перекапывали замерзшую землю на картофельном поле. А в 1944 году мой двоюродный дядька Андрей Михайлович Касаткин увез меня в Москву из Свердловска, чем фактически спас меня, так как у меня было жуткое истощение. «Ходячий скелет» – таким было мое состояние при возвращении из Свердловска.
По возвращении в Москву я жила на первом этаже палат Ирины Годуновой у моей бабки Екатерины Васильевны Касаткиной (Пятницкой, Рязанкиной), родственницы художника Николая Алексеевича Касаткина, которая работала комендантом (или домоуправом) нашего монастыря.
В 1945 году вернулись моя мама и брат – больные, голодные. Их откармливали овсянкой, слава Богу, что она была. Помню, что, кроме этого, мы собирали крапиву и варили из нее щи.
Когда освободили от подселенных жильцов нашу комнату, мы переехали в свою квартиру на втором этаже палат Ирины Годуновой. К тому времени она была уже коммунальной, в ней жили несколько семей. В числе прочих, соседкой нашей была Анна Ивановна Детинкина – монахиня Новодевичьего монастыря, которая продолжала работать в церкви. Жил рядом с нами в крохотной комнатке и экскурсовод музея Георгий Георгиевич Антипин. Мы – девчонки – бегали за ним и слушали его рассказы о монастыре.
В конце войны каждый раз в день освобождения от немцев какого-либо города с угловой (Сетуньской) башни был салют из ракетниц. Это было счастье!
Совершенно другой участок стены, с севера. Однако снимок подтверждает, что стена в те годы была вполне доступна.
Кстати, в Сетуньской башне с конца войны проживал известный детский писатель, художник-иллюстратор и режиссёр-мультипликатор Владимир Григорьевич Сутеев, с которым мы были хорошо знакомы. В Напрудной («башне царевны Софьи») жил потомок знаменитого графского рода Василий Шереметев.
Постепенно возвращались из эвакуации наши соседи, а их стало так много во время войны – пустующие комнаты были отданы работникам Гознака, Исторического музея с Красной площади и многим другим семьям (~1100 человек, так мне помнится).
Новодевичий монастырь был в то время входом и на кладбище, оно было закрытое, но мы бегали туда за яблоками и посмотреть на могилы знаменитых людей. Вход на кладбище был через южные ворота монастыря, а по краям в малых арках жили опять же семьи.
Как-то раз, не помню уж, в каком году, нас – детей, бегающих по улице – разогнали люди в штатском, запретив выглядывать в окна. Кто-то прошел по дороге на кладбище.
Вход в монастырь (через северные ворота) был открыт до 10-11 часов вечера, а потом сторож закрывала ворота, а мы стучали, если приходили поздно. На стене у ворот висел список жильцов, а их было много семей, ведь жилой фонд составляли еще и поздние деревянные постройки, которые после выселения были сломаны.
Мой брат, женившись после армии, жил в комнатке под лестницей в здании бывшего Филатьевского училища – крохотная ледяная комнатка с отдельным входом.
Вдоль стен с внутренней стороны были построены сараи для дров, один сарай на несколько семей. Из нашего сарая можно было попасть на башню, а потом и на стены, мы гоняли по ним, но где-то проходы были закрыты.
В подвале Успенской церкви в послевоенное время размещались склад овощей и общежитие, в котором жили дворники и семьи, приехавшие давно в Москву. Потом начал работать свечной завод, на котором также делали иконки, впоследствии переведенный в Софрино.
На южном входе в церковь располагалось конструкторское бюро (в нем работал мой двоюродный дядька А.М. Касаткин), а потом, когда КБ куда-то перевели, там разместилось общежитие.
Сама же церковь и в те годы действовала, в ней проводились богослужения. На Пасху всегда было много народа, люди приходили святить куличи, пасху и яйца крашеные, а когда начинался крестный ход, я смотрела со второго этажа на это шествие. Как только проходили мимо входа в наш дом, мы выскакивали и бежали слушать раздававшийся из раскрытых окон «Христос Воскресе!», а потом уже пришедшая на богослужение молодежь расходилась, а мы шли по домам.
Весна, как правило, приходила к нам раньше, еще до Пасхи. Обычно почки распускались раньше, а то уже были и листочки и сережки на березках.
Когда же звонил колокол на колокольне, то мы буквально глохли, невозможно было разговаривать.
Один раз я залезла на колокольню – оттуда открылся потрясающий вид Москвы, но когда я спустилась, у меня «не было ног».
В какой-то год в грозу молния ударила в колокольню, она загорелась, горели голуби и их помет. Приехала пожарная машина, но пожарные ничего не могли сделать – лестницы были коротки. С тех пор перестали работать часы и колокол.
Другой раз во время грозы молния ударила в одну из старых лип, росших возле домовой церкви палат Ирины Годуновой, и расщепила ее. Вторая липа при этом осталась целой и благополучно растет и сейчас.
Вся территория монастыря была в памятниках. Сирень цвела, были огромные кусты. Мы были предоставлены сами себе. Родители только звали нас поесть и спать.
Удивительное было время! Время общения и веселья. Танцы, футбол, волейбол, каток. Ходили в кино через цыганские бараки – в клуб Свердлова. (Первый экран! Трофейные фильмы!). Играли в казаки-разбойники по всей территории. Ранней весной на лестнице Смоленского собора прыгали через веревочку и в классики. Летом мы ходили купаться на пляж на Потылиху, а зимой – на каток в Парк Горького.
Ходить за окружную железную дорогу мы боялись – там была страшная грязь, Лужники летом и весной заливали воды Москвы-реки, так как она была еще без гранитных берегов. Новодевичьи пруды в те годы были грязным болотом (иногда в них даже находили трупы), помню и всю грязь, брошенную вдоль их берегов, и остатки древней деревянной стены под Напрудной башней («башней царевны Софьи»). Дорога проходила через эти пруды к железнодорожному мосту, который весь шатался от проходивших поездов. Настил на нем был дощатый, но с промежутками, а внизу виднелась река.
Через пруд, напротив «башни Софьи», была старая деревня с коровами (2-3 дома вместе со всякой живностью). Однажды я ходила кататься на горку (мы катались на санках от северного входа вниз к прудам), и видела, что в этой деревне затопило дома, так как Москва-река разлилась до самых прудов.
Новый этап в нашей жизни начался, когда нам провели газ и отопление. До этого в нашей угловой комнате стена каждой зимой покрывалась инеем. Мы топили печку, а за дровами нам приходилось ездить на санях к Киевскому вокзалу. За керосином мы ходили за Усачевские бани (там была керосиновая лавка).
Из заметных событий особенно запомнилось празднование 800-летия Москвы в 1947 году. Мы залезли на стену и смотрели на салют. Такого фейерверка не было никогда раньше. Неповторимый!
Город и район менялись на наших глазах. Примерно в 1951 году, а, может быть, и позднее, мы смотрели, как строится университет на Ленинских горах.
Работавший в монастыре музей расширялся постепенно, расчищались одна за другой стены, шло планомерное появление экспозиций. Сотрудники нас пускали на просмотр – помню, впечатлили ковры-дорожки, вышитые крестом шерстяными нитками – удивительной красоты рисунок, какие яркие и свежие цвета! А потом под собором открылись захоронения, мы видели там каменные гробы.
Перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов 1957 года монастырь и окрестности привели в порядок: очистили пруды, покрасили стены, снесли деревянные бараки. Думаю, все эти работы были связаны именно с фестивалем.
Почтовый адрес у нас менялся – сначала это была Большая Пироговская улица, дом 2, а потом – Новодевичий проезд, дом 1.
Я уехала из монастыря одной из последних в 1970 году, так как мне хотелось получить жилье за выездом поближе к работе. Я дождалась и выехала на Ленинский проспект, получив комнату в пятиэтажном доме в зеленом районе с удобным сообщением.
С друзьями и соседями по монастырю («монастырскими»!) мы не потеряли связи до сих пор, несмотря на прошедшие годы. Созваниваясь друг с другом, мы всегда вспоминаем наш монастырь, часто приезжаем сюда. Даже из Ленинграда приезжала Верочка Ландшевская, моя соседка, она старше меня, но ее тянет сюда. Мои внуки с сыном тоже были здесь. Очень доброе, с хорошей энергетикой место. Спасибо тебе, нам монастырь, за наше послевоенное детство и юность. Кто-то уже и не может добраться до монастыря (под 80 лет им), но, когда разговариваем по телефону, то в голосе столько тепла и любви слышишь и сожаления, что не могут попасть в родные пенаты.
Может быть, все наши воспоминания – детские, но такого детства и юности не было и нет у теперешних детей.
И еще немного фото - люди Новодевички. Кого-то я могу идентифицировать, кто-то для меня уже навсегда останется загадкой.
На следующем фото слева - моя бабушка
Дети Новодевичьего. Слева - мой дядя.
А тут он - справа и несколько постарше.
Слева - моя мама. С девочками она дружила до конца жизни (с третьей слева - совершенно точно).
На переднем плане - моя бабушка и тетя. Скорее всего, это фото было сделано в начале 70-ых годов, уже после переселения из монастыря.
Ну и добавлю пару фото с присутствием моего вышеупомянутого прадеда - Альберта Петровича Пинкевича. С А.М. Горьким он слева, с Горьким, Алексеем Толстым (?) и двумя людьми, которых я затруднюсь идентифицировать - справа.