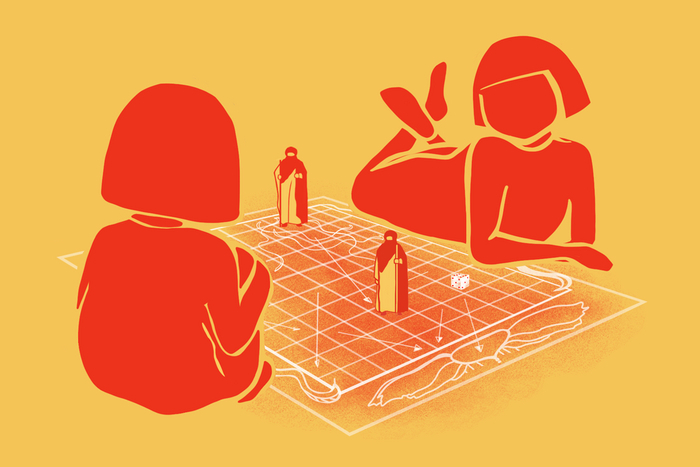Советские мистики: история человека, который захотел стать реальным (1/2)
Президент Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии Владимир Майков идет к осознанности более 40 лет. Он был участником клуба «Контекст» — главного источника самиздатовской духовной литературы в Союзе. Для проекта «Советские мистики» Маргарита Федорова поговорила с ним об эзотериках времен СССР, лжегуру и современных «йогнутых».
От автора
С Владимиром Майковым мы встречаемся в особняке института философии РАН на Таганке. В здании пусто и тихо, из видимых живых — только охранник и уборщица. Если судить по окружающей атмосфере и фактам из биографии Майкова — окончил Физтех, аспирантуру Института философии, где до сих пор работает старшим научным сотрудником, — передо мной должен предстать серьезный ученый муж в костюме и галстуке. Все оказывается иначе. На Майкове синяя рубашка-поло и голубые джинсы — кажется, что он только вернулся с отдыха. Высокий и худой, он резво взбегает по мраморной лестнице и стремится к кабинету. Я следую за ним. С первых слов разговор льется как вода. Майков говорит восторженно, легко и образно, будто рассказывает сказку, а еще часто и искренне улыбается — так, что у меня создается ощущение, будто у него внутри бесперебойно работает генератор радости.
Владимир Майков на мосту Золотые Ворота в Сан-Франциско, 1990 год
— Хотите чаю? — спрашивает Майков перед началом интервью. — Есть китайский. Я привез его из Чжуанчжоу, где в прошлом году проводил десятидневный семинар о древних практиках заботы о душе, холотропном дыхании и своей системе эволюционного навигатора.
— Да, спасибо, хочу. Интересно как: у китайцев же своя древнейшая духовная база, которую пытаются перенять у них европейцы. Зачем им?
— Их очень интересуют западные достижения в психотерапии. Они хотят понимать современный мир, быть в нем лидерами, поэтому ищут необходимые для этого инструменты. Правда, есть свои нюансы: все духовное, то, что угрожает власти, там не одобряется — к примеру, даже слово «трансперсональный» рекомендуется не употреблять, и мне приходилось лавировать, подбирать правильные выражения.
Эту историю Владимир Майков рассказывает со смехом, как какой‑то анекдот, при том что он сам является представителем именно трансперсональной психотерапевтической школы. Еще в 50–60-х годах прошлого века американские нейробиологи и психологи заинтересовались трансперсональными переживаниями — измененными состояниями сознания человека, выходящими за границы эго, времени и пространства. Заглядывать на другую сторону видимой реальности им помогали еще не попавшие тогда под запрет психоделические вещества. Это было время эксперимента и синтеза: вдохновленные духовными практиками Востока ученые, а следом за ними художники и музыканты, проводили на себе опыты, стремясь расширить границы восприятия.
Тогда же появилась трансперсональная психология. Ее адепты сконцентрировались на изучении духовного мира человека, разработке техник самоанализа и личной трансформации, позволяющих испытать единение с человечеством, природой и Вселенной.
С работами мастеров этого течения Владимир Майков познакомился в 1980 году, когда поступил в аспирантуру Института философии и одновременно стал членом подпольного московского трансперсонального клуба «Контекст». В этот клуб входили люди, занимающиеся переводами работ ведущих мировых исследователей психики и сознания. После распада Союза Майков отправился в США на обучение и привез оттуда систему холотропного дыхания. Этот метод погружения в измененные состояния сознания без употребления психоделиков изобрел один из основателей трансперсональной психологии Станислав Гроф.
Майков относится к себе и своим духовным поискам с юмором, он со смехом называет себя «дилетантом широкого профиля». «Сначала мне думалось, что я занимаюсь настоящей физикой, потом — философией. Следом мне казалось, что я трансперсональный психолог и духовный практик, особенно глубоко продвинувшийся в познании тибетского буддизма. Потом я был издателем, кинорежиссером», — с улыбкой перечисляет он. В 2015 году Майков выпустил документальный фильм «Танец бесконечности», в основу которого легли его беседы с мировыми духовными учителями и пионерами трансперсональной психологии.
Затем он снял фильм об американском писателе-мистике Карлосе Кастанеде и еще один — «Инструменты эволюции», продолжение «Танца бесконечности».
О прошлом Майков вспоминает радостно и с удовольствием — даже о проблемах с КГБ. Слушая его, я не могу отделаться от ощущения, что смотрю добрый и светлый советский фильм, главный герой которого обязательно пройдет все испытания, сохранит открытое сердце и веру в людей и будет жить долго и счастливо, трудясь во благо мира на всей Земле.
СССР. Первые шаги
«Я еще легко отделался»
Моим первым проводником в трансперсональный мир стал легенда советского эзотеризма, известный переводчик и один из основателей клуба «Контекст» Виталий Михейкин. Мне было 24 года, я как раз окончил Физтех. Это был человек очень большого сердца и большой мудрости. Ему на момент нашего знакомства было всего 42 года, но уже тогда все называли его «дедом». Он был нашим старейшиной. Выглядел Виталий соответствующе: длинные волосы, седая борода а-ля Маркс.
От него я получил первую из переведенных им книг Станислава Грофа «Области человеческого бессознательного». Я читал ее всю ночь и на следующий день уже был другим человеком: я ясно увидел, что мешает человеческой свободе, развитию — без проработки чего любая психотерапия и попытки развиваться будут только имитацией. Именно к Виталию Михейкину и его жене Алене мы все в основном и приходили на «контексты» — так назывались наши подпольные встречи. Это было настоящее трансперсональное братство людей — художников, архитекторов, ученых, психологов, ищущих истину, знания, реальность. Среди других основателей этого клуба был Анатолий Арлашин, активно занимающийся в те годы йогой, осознанными сновидениями и гурджиевскими практикам (Георгий Гурджиев — российский мистик первой половины XX века. — Прим. ред.) Именно с его легкой руки в СССР попали первые четыре тома Карлоса Кастанеды. Другим патриархом нашего братства был писатель и поэт Валентин Куклев.
Квартира у Виталия Михейкина была в Медведково — небольшая, около 40 метров.
Даже если набивалось человек пятнадцать, тесно не было, как и не было никогда никакой специальной программы на вечер. Все задачи и методы работы возникали спонтанно: они определялись контекстом, полем. Мы учились импровизировать, развивать интуицию, исследовать себя.
Сеанс хождения по горящим углям на первой российской трансперсональной конференции «Между любовью и смертью», организованной Владимиром Майковым в Подмосковье, сентябрь, 1996 год
Когда‑то это была дискуссия, когда‑то конкретные практики. Ни на опыт, ни на возраст, ни на дипломы никто не обращал внимания — если кто‑то брал слово, мы считали, что через него в этот момент с нами говорит Вселенная. Тогда у нас на руках уже были переводы трудов немецкого психолога Фрица Перлза, и мы взяли из них практику «горячего стула». Человек, желающий разобраться в своих проблемах, садился на стул, и с ним начинал работать ведущий, остальные участники группы молча свидетельствовали этот процесс. По окончании сессии мы делились своими чувствами, но ни в коем случае не давали советов и не оценивали произошедшее. Мы использовали и гурджиевские техники: к примеру, в какой‑то момент говорилось «стоп», и все застывали, чтобы осознать, где они находятся, о чем думают. Среди нас были люди, которые серьезно занимались мистическими христианскими практиками. Были контакты с суфийскими мастерами.
Это был настоящий рыцарский клуб. В то время карьера нам не светила, ведь большинство из нас не были в системе. Нас не сильно волновали деньги, поэтому мы жили спокойно и занимались главным: было время на дружбу, любовь, чтение, на внимательный поиск того, что действительно интересно и важно. Мы никуда не торопились — в этом было неоспоримое преимущество брежневской эпохи.
Я даже с сожалением смотрю на нынешнее молодое поколение, которое несется в беличьем колесе: у них нет времени читать, и даже медитацию они пытаются освоить в спешке, потому что это полезно для бизнеса.
От Виталия я впервые узнал серьезно о тибетском буддизме: он стал вовлекать меня в переводческую деятельность, предложив мне отредактировать перевод текста великого тибетского мастера традиции дзогчен «Как нирвана и сансара возникает из основы бытия». Эта книга во многом и определила путь моих дальнейших духовных поисков своей истинной природы. Потом вместе с его женой я перевел книгу известного канадского буддолога Герберта Гюнтера «Рассвет тантры», которую он написал совместно с тибетским ламой Чогьямом Трунгпой Ринпоче.
Бывало, что встречи происходили у других участников «Контекста»: к примеру, у художника Сергея де Рокамболя. У него собиралась богема. Он поражал непредсказуемостью, артистизмом, вел себя провокационно, ничего не принимал на веру и обладал потрясающим юмором и тягой к реальности. Эта тяга к познанию реальности, а также дружба и объединяли всех нас.
Встречи «Контекста» были именно подпольные — официально в Советском Союзе эзотерика находилась вне закона. В 1982 году мы с Виталием Михейкиным отправились в Бурятию, чтобы познакомиться с живым буддизмом через учеников бурятского ламы Бидии Дандарона. Он был первым ламой в СССР, кто стал передавать знание о тибетском буддизме ученикам из Питера, Москвы, Киева и Прибалтики, а также занимался объединением буддизма с европейской философией и достижениями современной науки. За свою деятельность он не раз попадал в лагеря, где в итоге и умер, ушел в другое измерение. Его ученики благословили нас на вхождение в подпольные кружки буддистов.
В эту поездку произошло настоящее чудо: я получил посвящение в буддийские практики от самого Далай-ламы XIV. Оказалось, что именно в это время он приехал в Бурятию и давал учение в Иволгинском дацане, и нам с Виталием посчастливилось быть там. На ретрите представители местных спецслужб записали наши имена, и, конечно, после этого у меня возникли серьезные проблемы с КГБ.
Меня вызвали на Лубянку. Следователь долго расспрашивал, что я там делал, склонял к сотрудничеству. Я отказался. Тогда он мне сказал: «Ну ты, сука, у меня на работу не устроишься! Не защитишься! Понял?!»
Слово он сдержал. Я тогда оканчивал аспирантуру Института философии АН СССР, уже написал диссертацию, и по закону после аспирантуры меня должны были взять туда на работу, так как я был аспирантом, поступившим по конкурсу.
Несмотря на то что моим шефом был известный советский философ, член-корреспондент АН СССР Александр Спиркин, ставку мне не дали, а диссертацию я защитил через четыре года, когда началась перестройка. В других местах мне тоже долгое время отказывали: сначала соглашались взять, а потом через несколько дней говорили «нет». Как я потом узнал, всем звонили и не рекомендовали менять брать. Мне тогда было двадцать семь лет, на руках маленький ребенок, шесть месяцев без работы.
Я еще легко отделался. Я знаю тех, попал в тюрьму на несколько лет за совершенно невинные вещи: практику йоги, распространение учения Рерихов или за выпуск самиздатовской литературы.
При этом в Союзе были те, кто мог позволить себе заниматься непознанным — к примеру, мой шеф Александр Спиркин. Члены-корреспонденты Академии Наук были в то время свободными людьми, можно сказать «неприкасаемыми». Александр Георгиевич очень интересовался экстрасенсорикой, он был покровителем экстрасенсов, а параллельно выпускал «правильные» советские книги. У него была лаборатория, где изучались их способности, и они толпами приходили к нам в сектор, чтобы попасть к нему под крыло. Он очень многим покровительствовал: к примеру, известной целительнице Джуне. Важно понимать, что члены политбюро сами работали с экстрасенсами, даже Брежнев пользовался услугами Джуны.
Перестройка. Новые горизонты
«Именно в России я ощущаю себя наиболее реальным, живым»
Во времена перестройки в Союз стали активно наезжать американцы по программе Citizen Diplomacy, в основном представители разнообразных течений Нью-эйдж. В 1987 году в Москву приехала большая группа «ребеферов» — мастеров дыхательных психотехник, позволяющих заново пережить рождение и освободиться от травмы рождения. Многие из приезжих встречались с пионером водных домашних родов Игорем Чарковским, с которым я дружил. У него в гостях я, кстати, встретился с американским нейробиологом Джоном Лилли, создателем камеры сенсорной депривации, исследователем психоделиков и коммуникационных навыков дельфинов.
У Чарковского в квартире на улице Руставели ванная комната была перестроена в огромный аквариум — в нем то купались беременные женщины, то рожали. Когда мы подружились, Игорь мне рассказал, как к нему пришла идея водных родов. Он был водолазом, и однажды во время погружения к нему явился белый дельфин и сказал, что будет великий потоп, и чтобы спастись, люди должны вернуться в воду, а рождение таким способом как раз открывает в человеке необходимые способности. Я к тому моменту уже много знал про травму рождения из работ Станислава Грофа и прекрасно понимал, что мягкие роды очень важны для формирования здоровой психики человека. Я познакомил Чарковского с идеями Грофа, и это еще больше убедило его в правильности выбранного подхода. У меня два сына — от первого и второго брака, — и оба они родились в воде. Каждый раз я присутствовал при родах, ассистировал. Здесь мои теоретические познания перешли в практику.
С писателем, психотерапевтом и мастером медитации Джеком Корнфилдом, Калифорния, 1992 год
На первом семинаре программы Grof Transpersonal Training, Калифорния, 1990 год
Cо Станиславом Грофом (в центре) и Вячеславом Цапкиным (справа), Калифорния, 1990 год
В 1989 году я лично познакомился со Станиславом Грофом. Он выступал в НИИ психиатрии. В зал, вмещающий максимум 400 человек, набилось около пяти сотен людей. Гроф прочитал лекцию о целительном потенциале измененных состояний сознания. Ему рукоплескали, потом выстроилась огромная очередь за автографами на самиздатовских изданиях двух его книг. Он был очень растроган: и вниманием, и тем, что его работы широко разошлись в самиздате. В следующие дни во Всесоюзном центре психоиммунологии происходил первый в СССР семинар по холотропному дыханию. Там я получил приглашение Грофа поехать в США к нему на обучение. Обучение для нас, первопроходцев, было бесплатным, необходимо было только найти деньги на билеты.
В то время была эйфория от перестройки. Большой русский медведь оказался мирным и послушным.
На Западе на нас смотрели через розовые очки — я говорю про обычных американцев. Понятно, что политологи все прекрасно понимали и делали свое дело: внедрялись, управляли и разваливали там, где надо развалить, но в массовой культуре перестройка и русские воспринимались эйфорически, ведь и мы, и американцы очень долго жили в страхе ядерной войны. У Грофа были друзья-миллионеры, которые создавали специальные фонды, финансирующие его программы, дающие поддержку людям, желающим пройти у него обучение, но не обладающим необходимыми средствами. Нас кормили, поили, предоставляли жилье. Программы проходили в разных местах — то в горах, то в лесах, то в пустыне, то в США, то в Европе.
Стоимость билета была огромной по сравнению с зарплатой, но мне везло: один раз перелет мне оплатил Фонд Сороса, другой раз — друг Грофа монах Дэвид Штейндл-Раст. Я познакомился с ним на конференции в Италии в 1991 году. Он потряс меня невероятной добротой, скромностью и присутствием. Брат Дэвид спросил меня, когда я приеду в следующий раз. Я ответил, не скоро — нет денег. И он взял и просто купил мне билет.
В дальнейшем у меня было несколько возможностей работать в Европе и в США, но я всегда относился к этому спокойно. Я очень рано понял, что для меня чрезвычайно важно жить в России, в стране, где я вырос, где я чувствую, не просто слышу, а осязаю телом язык, его интонацию, энергии. Этот вкус мне привили родители. Мой отец хорошо пел и любил музыку. Благодаря ему с самых ранних лет я слушал пластинки с лучшими мировыми голосами. Я впитал это знание: для меня живая речь — наиболее полное выражение человека. Кроме того, я очень много времени проводил в деревне. Со стороны матери у меня все родственники оттуда: у нее было семь братьев и сестер. Через этот опыт — народные праздники, ягоды-грибы, работу в поле, эклектику христианства и язычества, процветающую в деревнях — я получил сильную связь с землей. Думаю, поэтому именно в России я ощущаю себя наиболее реальным, живым.