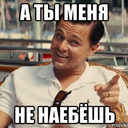Сон Семьи
Я перестал воспринимать форму предметов, все расплывается. Голову тисками сжимаете неопределенность. Очертания искажаются и дрожат, огонь многократно слоится, оставляя инверсивные следы по всему двоякому пространству.
Сон заползает в комнату, из отдушины на потолке лукаво свесился глаз. Он искрится и поет, на отражениях пляшут злые и нездешние народцы.
Сон затягивается, глаза под веками двигаются с отвратительной скоростью, очень и очень медленно ворочается язык в межзубном пространстве, во сне пальцы крючит мокрая судорога, ощущение простыни рвется, столб позвоночника выгнется, на секунду губы разъедутся, обнажив прокуренные легкие, спицы реальности, глубоко буравят виски, но не просыпаюсь. Я не просыпаюсь.
Кадык нервно колотится, в глотке зреет урожай белого налета, из-под губ вырываются пузыри, сначала белые, потом более розовые, алая пена, вялый язык не успевает слизывать красные струйки, они текут вверх по холму подбородка, текут в стороны, оставляют на простынях узор, дорожную карту сна, дороги для носорогов-убийц.
Раскинув руки отдыхая на океане пододеяльника, совсем не заметил, оранжевых карликов с гигантским штопором, зажав рот тряпками они воткнули в грудь штопор и что- то достали, вопящие карлики заглушали всхлипы и рыдания моих внутренностей, внутренности молились божеству, сторукому, стоногому сердцу, оно мерно вздыхало и икало на гигантских тросах натянутых внутри грудной, клетки.
Острые как бритвы грани у клювов пеликана, они откусили руку моему отцу, когда он плавал на крылатом корабле.
Ежи съели мою маму, я помню ее в белой шляпке, и платье у нее было белое такое, с рисунком взрывающегося автобуса, ежи бросились на маму, когда она наступила на волшебный мох, они ее растерзали, пробили иглами высокий белый лоб, нанизали на иголки глазные яблоки.
Я был невидим, я оплакивал папину руку, она летела вслед за кораблем жалобно плача и причитая, она хотела домой, она хотела к сердцу. Я стоял там еще 8 лет, пока рука не сгнила в воздушной могиле и клочки моей Мамы не покрылись серебристым налетом. Я взял прядь ее блеклых волос.
А Папа после потери руки стал очень веселым, он решил отказаться от карьеры воздушного командира и решил построить дом, дом был деревянный и круглый, внутри должно быть очень уютно, папа прибил на стенки рентгеновские снимки своей культяпки, много их было, гораздо больше, чем у меня игрушек.
Папа громко хохотал бродя по дому, в котором была всего лишь одна комната, он останавливался перед фотографиями и заливисто, как ребенок, смеялся, в такие минуты Я приседал на корточки и вспоминал маму. Как она в белом, а ее ежи.
Отец перестал хохотать по ночам, а чувствовал, что должен помочь ему. Я звонил в управление по делам воздушного флота и молчал, но мне кажется, что там все понимали.
Через год папу увезли, два худых господина в очках и в униформе воздушного флота, они заломили ему руки, он хохотал и говорил, что летит на Юпитер, я шепотом поздравил его, и долго бежал за 6-колесным вездеходом, на котором уехали господа и мой Папа.
А ночью я остался совсем один, женщина с головой варана пела мне песню, глаза лишенные ресниц смыкались и размыкались, над головой клубились волосы, которые за ночь отслаивались от головы и падали на подушку уже совсем седые. И я плавал в этих волосяных облаках, и снилось мне, что мы втроем.
Я, МАМА и ПАПА идем по алее из сухих деревьев. Мы счастливы, у папы еще есть его рука, затянутая в рукав оливкового мундира командира воздушного корабля, а мама еще не растерзанная ежами в белом платье с рисунком взрывающегося автобуса, что-то говорит мне, слова вылетают из ее рта в виде застывших зеленых облаков, а о будущем напоминают только ежиные иглы, растущие на маминой голове вместо волос.
Москва
Жизнь на Марсе
В коллективном полубессознательном опять поднимается тема колонизации иных планет. В частности Марса. Илон Маск со дня на день таки обещает доделать свои старшипы и свалить с грешной Земли поближе к звёздам.
У нас масштабы помельче. Для начала потренируемся на Подмосковье. Благо его колонизировать не переколонизировать. Два часа на автомобиле, и вокруг сплошные леса и поля заросшие борщевиком. Надо с этим что-то делать.
Начинаем по мелочи. Дальше будет больше и интереснее.
Описывать происходящее в видео нет смысла, это надо смотреть.
Панельный Колизей
Пол шарика среди кубиков
.
Вчера увидел необычный домик в форме полусферы.
Владелец "полушарика" утверждает, что если бы люди знали,
на сколько выгоден купольный дом, то многие строили бы свои дома
именно такой формы.
Тут спроса мало ещё и потому, что не привычно большинству обывателям.
А в чём фишка-то?
Во первых - тепло распределяется равномерно, если, действительно,
устанавливать тёплые полы, так как второй этаж не нуждается в обогреве.
Во вторых - продуваемость минимальна за счёт округлости и обтекаемости!
В третьих - внутренняя эргономичность и бесконечные возможности в планировке.
В четвёртых - купол, действительно, держит самого себя, что позволяет минимизировать затраты на несущих конструкция!
В пятых - скопления снега не будет, это факт! ))