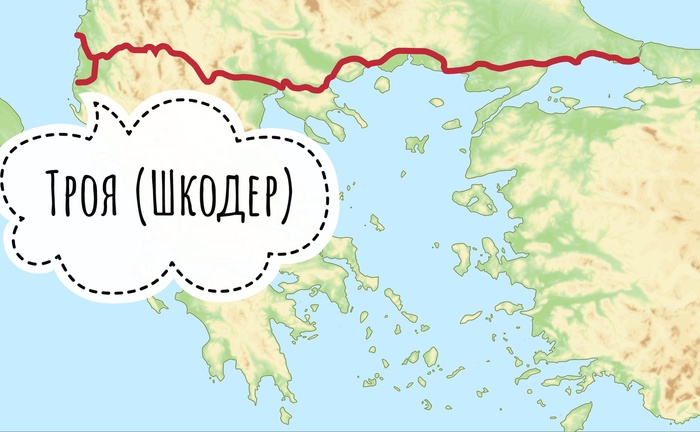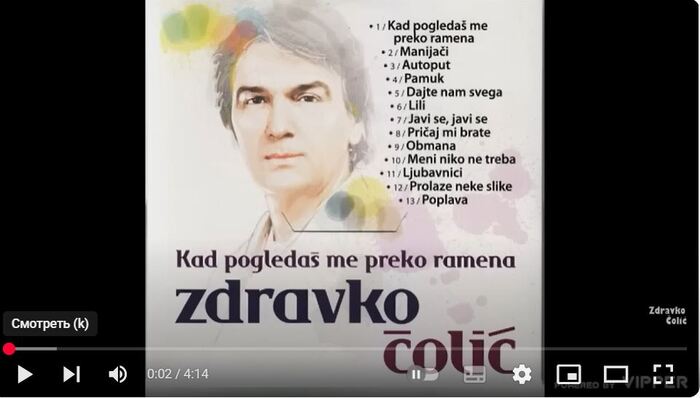От мифической Трои к реальной Шкодре: переосмысление гомеровского эпоса (часть 1)
Крепость Розафа (бывшая Троя). Источник: https://traveling.by/news/item/2663?utm_medium=organic&u...
Крепость Розафа (бывшая Троя). Источник: https://traveling.by/news/item/2663?utm_medium=organic&u...
Глава 1. Интерпретация «Илиады» в контексте современной хронологической парадигмы: предмет исследования, методология и источниковая база
Настоящая глава посвящена формированию методологических основ для прочтения эпической поэмы «Илиада» как художественного осмысления реальных военно-логистических событий, развернувшихся на территории восточной Адриатики в конце IX — начале X века (897–907 гг. согласно хронологической шкале SC).
В рамках данного исследования под термином «Троя» понимается город Шкодра (Скадар) с крепостью Розафа и прилегающей долиной. Под «ахейцами» подразумевается коалиция прибрежных полисов, действовавшая под эгидой византийского права в союзе с венецианским конвоем. «Троянцы» в предлагаемой интерпретации представляют собой силы, контролировавшие горные и внутридолинные территории, а также стратегические перевалы и коммуникации между побережьем и внутренними землями.
1. Постановка исследовательской задачи
В рамках настоящего исследования предполагается:
продемонстрировать, что ключевые эпизоды «Илиады» отражают не абстрактную «античную» экзотику, а конкретные приёмы осадно-морской войны (высадка войск, обустройство корабельного стана, возведение временных укреплений, борьба за контроль над бродами и речными поймами, обеспечение прикрытия стратегически важных перевалов);
установить корреляцию между поэтическим описанием событий и документальными источниками X–XI веков (сочинения Константина VII, Иоанна Скилицы, Анны Комниной), в которых прослеживается аналогичная логическая структура («город снабжается морем», «нужно занять теснины»).
2. Методология исследования
Предлагаемая методология базируется на трёх ключевых положениях:
Хронологическое допущение. Исследование проводится в рамках хронологической системы SC, согласно которой «Троянская война» отождествляется с военной кампанией 897–907 гг., связанной с осадой Шкодры и попытками перехвата её снабжения.
Географическое отождествление:
Троя — Шкодра (Скадар) («замок долин»);
Скамандр/Ксанф — река Бояна (Буна) и её разливы;
Симойс — река Кир или один из рукавов Дрина;
«Ида» — горный массив Проклетие (Албанские Альпы);
Троадская равнина — Зетская низина к югу и востоку от Скадарского озера. Указанные соответствия носят эвристический характер и верифицируются по функциональным признакам.Правовой и логистический анализ. Интерпретация «Илиады» через призму взаимосвязи «портовое право — конвой — перевалы».
3. Источниковая база для верификации гипотезы
В качестве основных источников выступают:
греческий оригинал поэмы «Илиада» с анализом текстовых маркеров военных действий у моря и рек;
византийские источники:
трактат Константина VII «De administrando imperio»;
сочинения Иоанна Скилицы;
«Алексиада» Анны Комниной;папская переписка (в частности, послания Иоанна VIII о славянских пиратах-нарентанах).
4. Ключевые гомеровские маркеры и их «адриатическая» интерпретация
Корабельный стан и временные укрепления. Цитата: «τεῖχος ἐτειχίζοντο… τάφρον δ᾽ ὀρύξαν» («они воздвигли стену… и вырыли ров», Il. 7.436–441). Интерпретация: типичная для высадки временная линия укреплений вокруг стоянки судов на открытом берегу.
Наличие «узкой воды» и швартовки на отмели. Цитата: «νῆες ἔσαν… ἐπ᾽ ἀκτῇ πολυφλοίσβοιο θαλάσσης» («корабли стояли… на берегу многоплесного моря», Il. 1.34–35). Интерпретация: каботажная логика восточной Адриатики с вытаскиванием судов на песок/гальку.
Речная система (Скамандр/Ксанф и Симойс). Цитата: «τὸν δ᾽ ἄρ᾽ Ἀχιλλεὺς ἔφεπτο Σκάμανδρον, ὃν Ξάνθον καλέουσι θεοί» («и гнал его Ахилл к Скамандру, что боги зовут Ксанфом», Il. 21.1–2). Интерпретация: слияние двух потоков у подножия крепости.
Горный надзор («Ида»). Цитата: «ἵζετ᾽ ἐπ᾽ Ἴδης κορυφῇσιν» («сел он на вершинах Иды», Il. 8.47). Интерпретация: наблюдательный пункт на водоразделе Проклетие.
5. Критерии верификации соответствий
функциональная роль перевалов в системе коммуникаций «море → озеро/реки → долины»;
зависимость осаждённого города от морских поставок;
отсутствие защищённой гавани у описываемого в поэме города.
6. Ограничения применимости методологии
Следует подчеркнуть:
недопустимость буквального отождествления всех топонимов с современными географическими названиями;
приоритетность функционального значения местности над буквальным совпадением названий;
интерпретацию «Каталога кораблей» как поэтического перечня контингентов приморских полисов.
7. Основные выводы
Проведённый анализ позволяет заключить:
«Илиада» отражает узнаваемую для X–XI веков схему ведения войны (флот у берега, временные укрепления, борьба за контроль над коммуникациями);
в рамках предложенной хронологии события поэмы интерпретируются как осадно-морская операция против Шкодры;
поэтическая система Гомера отражает те же логистические структуры, что и официальные документы Византийской империи, несмотря на различие языков описания.
В последующих главах будет подробно рассмотрена географическая составляющая исследования и составлен «глоссарий соответствий» по отдельным эпизодам поэмы.
Глава 2. Топография «Илиады» и функциональная карта осады: Троя = Шкодра
В настоящей главе предпринимается попытка установить корреляции между поэтической топографией, представленной в эпической поэме Гомера «Илиада», и реальной географической конфигурацией региона Восточной Адриатики, включающего территорию Шкодера (Скадара), долины рек Бояны и Дрина, а также горный массив Проклетия, в хронологических рамках приблизительно 897–907 гг. по шкале SC.
Методологический подход основывается не на буквальном «переводе» топонимов, а на сопоставлении функциональных характеристик местности, таких как гавань или открытый рейд, система укреплений (ров и вал), пойма реки, наблюдательные высоты и стратегические перевалы.
1. Опорные идентификации (функциональные соответствия)
Троя отождествляется с городом Шкодра (Скадар) с крепостью Розафа — «замком долин», где сходятся пути от морского побережья к межгорным равнинам. Устойчивость этого города напрямую связана с сохранением коммуникационной связки «порт — перевалы».
Согласно тексту «Илиады»: «Ἕζετ᾽ ἐπ᾽ Ἴδης κορυφῇσιν» («сел он на вершинах Иды», Il. 8.47), что символизирует образ наблюдательного гребня. В реальной топографии этому соответствует система водораздельных высот массива Проклетия над Скадарской низиной.
Скамандр/Ксанф соотносится с рекой Бояна (Буна), характеризующейся озёрным питанием и внезапными разливами. Поле сражения в поэме локализуется в районе брода и пойменных участков. Цитата: «…Σκάμανδρον, ὃν Ξάνθον καλέουσι θεοί» («…Скамандр, который боги называют Ксанфом», Il. 21.1–2).
Симойс ассоциируется с рукавами реки Дрина/Кира, которые сливаются с Бояной у подножия города. Цитата: «…κατὰ ῥόον Σιμόεντος» («вниз по течению Симоиса», Il. 21.136).
«Стена у кораблей» и «ров» интерпретируются как временная линия укреплений корабельного стана на открытом берегу Восточной Адриатики (участки без глубокой гавани). Цитата: «τεῖχος ἐτειχίζοντο… τάφρον δ᾽ ὀρύξαν» («воздвигли стену… и вырыли ров», Il. 7.436–441).
«Шумное море» и вытаскивание судов на берег соответствуют практике открытых рейдов каботажного плавания между Рагузой, Котором, Баром/Улцинем и Диррахием. Цитата: «…ἐπ᾽ ἀκτῇ πολυφλοίσβοιο θαλάσσης» («на берегу многоплёсного моря», Il. 1.34–35).
2. Линия операции: море — порт — перевалы — «город-узел»
Логистическая система данного региона включала:
морскую ось с прибрежными полисами под византийским правом и венецианским эскортом;
портовые узлы (Диррахий (Дуррес) и Аулон (Влёра)) как точки входа на Эгнатиеву дорогу (Виа Эгнация);
стратегические перевалы, контролирующие доступ к Зетской низине;
Шкодру как ключевой «город-узел» (Троя).
Формально западный конец Виа Эгнация — Диррахий (Дуррес). Шкодра (Шкодер) лежит севернее и вне основной трассы дороги, однако контроль Шкодры (Трои) и перевалов Бар-Котор фактически запирал/открывал доступ к терминалу Эгнации (Эгнатиевой дороги).
3. Полевые признаки, совпадающие у Гомера и в адриатической реальности
К числу совпадающих признаков относятся:
система временной фортификации у флота (ров, вал, частокол). Цитата: «…ἄνδρες Ἀχαιοὶ τείχεϊ καὶ τάφρῳ ἀμύνοντο» («ахейцы оборонялись стеной и рвом», Il. 12.1–5);
опасность, связанная с речными разливами («разъярённый» поток). Цитата: «Ξάνθος… ὀξὺν ἀϋτμήσας ἔβαλε κῦμα» («Ксанф поднял крутой вал воды», Il. 21.257–262);
отсутствие защищённой гавани у корабельного стана — типичная практика каботажного плавания в данном регионе.
4. Связка с Эгнатиевой дорогой (Виа Эгнация)
Морское плечо маршрута Рагуза — Котор — Бар/Улцинь — Диррахий выступает в роли «преддверия» Эгнатиевой дороги, которая обеспечивала сухопутную связь вглубь Балкан до Фессалоник и далее.
Поэтика «Илиады» отражает критический момент, когда логистическая связка между морем и сушей разрывается. Пока корабельный стан сохраняет жизнеспособность, обеспечивается снабжение осаждающих. Как только перевалы оказываются неприкрытыми, осаждённый город остаётся без сухопутного снабжения, и осада переходит в стратегическое удушение.
5. Ограничения и проверка
Методология исследования базируется на сопоставлении функциональных характеристик местности, а не на буквальном отождествлении топонимов. Верификация осуществляется с опорой на византийские прозаические источники, описывающие аналогичную логистику.
Ключевые маркеры для проверки:
«город снабжался по морю»;
«занять теснины»;
«приморье удерживают ромеи, внутренней страной распоряжается местный правитель».
6. Итог главы
Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы:
Топографическая структура «Илиады» обнаруживает функциональное соответствие с реальным географическим узлом Шкодра — Бояна — Дрин и морской линией к Диррахию.
Поэтические сцены у «стены и рва», у брода «Скамандра/Ксанфа», на «высотах Иды» отражают операционную логику, описанную в византийских источниках: морской подвоз, портовое право, прикрытие перевалов.
В рамках предложенной интерпретации:
«ахейцы» представляют собой прибрежную коалицию под византийским правом с венецианским эскортом;
«троянцы» — гарнизон «замка долин» и его сухопутные союзники.
Таким образом, «Илиада» может рассматриваться как хроника осады-удушения ключевого стратегического узла коммуникаций между Адриатическим побережьем и Эгнатиевой дорогой.
Глава 3. «Каталог кораблей» как реестр морской коалиции: кто такие «ахейцы» и «троянцы» в реальной осадно-морской системе
В данной главе мы интерпретируем «Каталог кораблей» (Il. II) как поэтическое отражение реальной военно-морской коалиции прибрежных общин Восточной Адриатики и их союзников вдоль Эгнатиевой дороги. При этом мы сохраняем ключевые положения, сформулированные в главах 1 и 2:
Троя отождествляется с Шкодрой (Скадаром) и крепостью Розафа;
«Ахейцы» представляют собой морскую коалицию под византийским правом с венецианским эскортом;
«Троянцы» — это гарнизон «замка долин» и союзные силы, контролирующие выходы из горных районов к прибрежной полосе.
1. Принцип чтения «Каталога кораблей»
«Каталог» не столько фиксирует этнические группы, сколько описывает логистические звенья и воинские контингенты, привязанные к конкретным портам и рейдам. Персональные имена и эпитеты в нём выступают в роли поэтических метафор, скрывающих за собой постоянные функции участников конфликта:
подвоз припасов;
охрана каботажных маршрутов;
высадка десанта у устьев рек;
прикрытие горных перевалов.
Эта прагматика подтверждается двумя ключевыми цитатами Гомера:
«νηῶν κατάλογος» — «перечень судов» (Il. 2.493) — акцент делается именно на судах и линиях снабжения, а не на народах;
«ἔνθα καὶ ἔνθα ἔπλεον» — «то туда, то сюда ходили [суда]» (Il. 8.223) — формула, отражающая регулярность каботажного плавания.
2. Ахейская коалиция: состав и роли
Основа коалиции — прибрежная полоса от Рагузы до Аулона, которая служит каркасом системы снабжения. Правовая основа коалиции — византийская портовая юрисдикция, включающая:
складское хозяйство;
систему сбора пошлин;
караульную службу.
Ключевые функции ахейцев, зафиксированные в «Каталоге»:
«οἳ ναυσίν ἄριστοι» (Il. 2.556) — «владетели морем» (лучшие в корабельном деле) — морские общины с собственным флотским опытом;
«νηῶν ταχὺς ἡγεμόνας» (Il. 2.720) — «быстрые на вёслах» — лидеры эскорта и проводчики караванов;
«укладчики стен у кораблей» (Il. 7.436–441) — береговые гарнизоны, способные возводить полевую фортификацию на открытом рейде.
Особая роль Венеции заключалась в обеспечении регулярного эскорта вдоль опасного участка — «φυλακὴν ἔχον ἀνὰ νῆας» (Il. 9.80) — «караул у судов».
3. «Троянцы» как гарнизон Шкодры и их союзники
Ядро «троянцев» — крепость Розафа и город, контролирующий стратегический коридор «море → порт → перевалы → Шкодра».
Союзниками выступают:
горные сообщества Зеты/Дукли;
владения Рашки, контролирующие тропы к Бару и Котору.
Эта система отражена в цитате: «помощники из соседних стран, пришедшие на зов Приама» (Il. 3.455–461).
Поэтические образы «лидийцев», «мизов» и «дарданцев» трактуются как маски различных горных и предгорных контингентов, сходящихся к узловому пункту Шкодры.
4. Соотношение сил: не «числа кораблей», а устойчивость цепочки
Числа кораблей в поэме (Il. 12–15) отражают не столько демографическую составляющую, сколько плотность морских рейсов и готовность к десантным операциям.
Исход конфликта определялся не количеством кораблей, а непрерывностью логистической цепочки. Два ключевых символических маркера:
«ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῶτο» — формула зависимости города от морских поставок («город кормится морем»);
«Σκάμανδρος ἐχώρει» (Il. 21.257–262) — образ паводка, символизирующий риск для обозов и лёгкой пехоты у Бояны/рукавов Дрина.
5. Текстовые маркеры «Каталога» и их «земной» смысл
Рассмотрим ключевые фрагменты текста:
«νηῶν κατάλογον ἄρξομαι» (Il. 2.493) — «Начну перечень судов». Автор структурирует повествование через призму морской логистики, а не этнографии.
«οἳ ναυσίν ἄριστοι…» (Il. 2.556) — «кто искусней всех в корабельном деле…». Подчёркивается специализированная роль морских контингентов.
«τεῖχος ἐτειχίζοντο… καὶ τάφρον ὀρύξαν» (Il. 7.436–441) — «воздвигли стену и вырыли ров». Описывается стандартная береговая фортификация для защиты флота и складов.
6. Вывод главы
«Каталог кораблей» — это поэтическая форма реестра морской коалиции Восточной Адриатики в период осады внутридолинного узла (Шкодры).
Основные выводы:
«Ахейцы» — военно-правовой альянс прибрежных полисов под византийским протекторатом с венецианским эскортом.
«Троянцы» — гарнизон крепости Розафа с горными союзниками, перекрывающими сухопутные выходы.
Исход конфликта определялся не количеством кораблей, а непрерывностью логистической цепочки «море → порт → перевалы → город».
«Каталог» драматизирует именно эту непрерывность: там, где связь между звеньями цепочки была прочной — наступали ахейцы, а где она рвалась — возникали критические ситуации («битва у кораблей»).
Дорогие читатели,
признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.
Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.
👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.
При копировании прошу указывать:
«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».
Читайте также:
Балканская Троя: исследование гипотезы о локализации „Илиона“ в районе Шкодера в Албании (часть 3)
Крепость Розафа (бывшая Троя). Источник: https://traveling.by/news/item/2663?utm_medium=organic&;u=...
Продолжение второй части Балканская Троя: исследование гипотезы о локализации „Илиона“ в районе Шкодера в Албании (часть 2)
Глава 11. Розафа (Скадар): город на стыке вод и времён
В этой главе мы постараемся систематизировать имеющиеся сведения об археологии и топографии Скадра (Шкодера) и крепости Розафа — того самого «крутого и ветреного» холма между водами, который мы рассматриваем в качестве возможного прототипа гомеровского Илиона. Наша задача — показать, что:
античные авторы действительно выделяли Скодру как важнейший политический центр Иллирии;
археологические слои Розафы свидетельствуют о непрерывной жизни этого места с иллирийских и римских времён вплоть до Средневековья;
природная обстановка — слияние рек и периодические разливы — полностью соответствует той картине, что нарисована в гомеровских поэмах.
1. Античные тексты о Скодре — столице иллирийских царей
Древние письменные источники эпохи эллинизма и ранней Римской империи прямо называют Скодру (современный Шкодер) одним из ключевых центров власти иллирийцев.
Так, Полибий в своих трудах, описывая дипломатические переговоры между царём Персеем и иллирийским правителем Гентием, чётко фиксирует прибытие посольства «в Скодру»: «…они… достигли Скодры (Scodra)». Далее автор подробно рассказывает о ставке Гентия и его колебаниях в выборе союзника — Македонии или Рима («The Histories of Polybius», кн. XXIX–XXX) [1].
Не менее определёнен и Ливий в своём изложении событий Третьей Иллирийской войны. По его словам, римский консул Луций Аниций Галл «двинулся к Скодре, столице царства Гентия». В русском переводе этот момент звучит так: «Войско консула подошло к Скодре, главному городу Гентия» (Кн. XLV, 26) [2].
Даже авторитетные энциклопедические издания прежних времён неизменно указывали на то, что Скодра была древней столицей иллирийцев во времена правления царя Гентия («Британника», изд. 1911) [3].
2. Что говорит археология Розафы
Розафа — это не просто живописные развалины, а многослойный археологический памятник с богатым культурным слоем. В современных научных работах крепость описывается как полноценный «Археологический парк».
Археологические исследования подтверждают:
наличие многочисленных памятников разных эпох — от древнейших времён до периода османского владычества;
присутствие остатков значимых сооружений, в том числе замковой мечети;
непрерывное развитие этого места как крупного городского и крепостного центра.
В 2000-х годах здесь проводились масштабные полевые исследования, в том числе международные археологические миссии — например, совместная польско-албанская экспедиция под руководством профессора П. Дычека из Варшавского университета [5].
3. Топография: «город на холме между водами»
И по сей день Шкодер остаётся уникальным гидрографическим узлом: крепость возвышается в месте слияния трёх рек — Бояны (Буна), Дрина и Кира.
Современные геоинформационные и гидрологические исследования подтверждают, что эта местность характеризуется:
регулярными сезонными затоплениями пойм;
сложными проблемами естественного стока воды;
необходимостью постоянного контроля и регулирования перетока воды между Скадарским озером и руслом реки Бояны [4].
4. Сопоставление с «Илиадой»: «две реки, что сливают быстрые воды»
В гомеровской поэме топографическая схема Илиона включает две параллельные реки — Скамандр и Симоис, которые сходятся в одной точке, а между ними простирается обширное поле, выходящее к морю.
В классическом русском переводе это звучит так: «…где Симоент и Скамандр быстрые воды сливают…» («Илиада», V, 773–777). В англоязычных академических изданиях этот фрагмент передаётся как «Where Simoeis flows and Scamander with his eddies unite their streams» [5].
По мнению античного географа Страбона, у Гомера речь идёт именно о европейской Фракии и «мизийцах в Европе» (Strab. 7.3.2) [6].
5. Почему это важно для нашей реконструкции
Такая интерпретация представляется убедительной по нескольким причинам:
политический статус — античные источники однозначно называют Скодру столицей иллирийского государства;
непрерывность существования — археологические слои подтверждают, что это был устойчивый центр, переживший множество исторических эпох;
соответствие топографии — природная обстановка в Скадарской котловине и дельте рек Буны и Дрина полностью совпадает с описанием в «Илиаде».
6. Ключевые цитаты в русском переводе
Ливий (XLV, 26): «Войско консула подошло к Скодре, главному городу Гентия…».
«Илиада» (V, 773–777): «…где Симоент и Скамандр быстрые воды сливают…».
Страбон (VII, 3, 2): «…у поэта тут — месийцы и фракийцы в Европе… иначе смешиваются материки…».
Вывод
Розафа/Скадар удовлетворяет всем ключевым критериям, необходимым для отождествления с гомеровским Илионом: значимый политический статус, многовековая история непрерывного существования, точное соответствие описанной в поэме гидротопографии.
Гипотеза «Скадар = Илион» получает убедительное обоснование благодаря совпадению трёх независимых линий доказательств: письменных источников, археологических находок и географических особенностей местности.
Источники:
https://archive.org/stream/historiespolybi00hultgoog/historiespolybi00hultgoog_djvu.txt «Full text of „The Histories of Polybius“».
https://www.facebook.com/groups/589445355951479/posts/851025319793480/?utm_source=chatgpt.com «Polybius is a good source debunking the Illyrian hoax…».
https://classicalliberalarts.com/resources/CAMBRIDGE_ANCIENT_008c.pdf «The Cambridge ancient history».
https://oll.libertyfund.org/titles/baker-the-history-of-rome-vol-6?utm_source=chatgpt.com «The History of Rome, Vol. 6 — Online Library of Liberty».
https://www.researchgate.net/publication/356553840_Terra_Incognita_Results_of_Polish_excavations_in_Albania_and_Montenegro?utm_source=chatgpt.com «(PDF) Terra Incognita: Results of Polish excavations in…».
https://en.wikipedia.org/wiki/Rozafa_Castle?utm_source=chatgpt.com «Rozafa Castle».
Глава 12. «Ветреный Илион»: горы, реки и поле боя у Скадра
В данной главе рассматривается соответствие реальной географии района Скадра (Шкодера) топографическим описаниям гомеровского Илиона.
1. Узел рек под крепостью
Крепость Розафа (Скадар) расположена на известняковом холме (100–130 м) у выхода из Скадарского озера. Гидрологическая система включает:
Скадарское озеро, сток которого формирует реку Бояну (Буну);
слияние Бояны с Дрином в нескольких сотнях метров ниже города;
реку Кир, впадающую в город.
Такая конфигурация соответствует описанию слияния рек Скамандра и Симоиса у стен гомеровского города.
2. Временные изменения русел (IX–X вв.)
Важно учитывать историческую динамику русел:
в 1858–1859 гг. произошла крупная авульсия Дрина;
до этого Дрин имел самостоятельный выход к морю западнее;
в раннем Средневековье постоянными реками у стен были Бояна и Кир, а роль Дрина была эпизодической.
Возможны два варианта отождествления гомеровских рек:
«Скамандр» — Бояна, «Симоис» — Кир или рукав Дрина;
«Скамандр» — суммарный поток Бояны с дополнением от Дрина в половодье.
3. Поле боя как естественная сцена
Шкодерская низина представляет собой широкую аллювиальную равнину со следующими характеристиками:
склонность к подпорам и затоплениям;
образование бродимых мелководий и протоков;
наличие широких ровных участков для действий пехоты и колесниц;
наличие «островных» холмов для наблюдения за полем боя.
4. «Холмистая Ида» и «ветреный Илион»
Северо-восточный фон местности формируют Албанские Альпы (Проклетие) с высотами более 2,5 км. Их положение объясняет:
образ «холмистой Иды» в поэмах Гомера;
эпитет «ветреный Илион» — благодаря сезонным ветрам с северо-востока и юга.
5. Соответствие с описанием Гомера
В географии Скадра прослеживаются ключевые элементы гомеровского Илиона:
слияние двух быстрых рек у стен города;
широкая равнина между рукавами рек и морем;
горный амфитеатр к северо-востоку;
продуваемый холм с крепостью у выхода реки к морю.
6. Ограничения гипотезы
Основной момент, требующий аккуратного рассмотрения — динамика русла Дрина в IX–X вв. Необходимо учитывать переменную величину его участия в гидросистеме у стен крепости.
Вывод
Географический «портрет» Скадра содержит все ключевые элементы, необходимые для отождествления с гомеровским Илионом. При учёте исторической динамики русел рек гипотеза о «ветреном Илионе» у Скадара остаётся внутренне непротиворечивой.
Такая интерпретация объединяет археологические, гидрологические и топографические данные в единую концепцию, объясняющую образы, запечатлённые в «Илиаде».
Источники:
[PDF] Organic matter characterization and distribution in the Lake Shkodra basin (https://fulir.irb.hr/1959/1/F_2012_884_Original_Paper_pp2283_2290.pdf?utm_source=chatgpt.com) — исследование гидрологии и геологии района Скадарского озера.
Пост в группе «Cestujemo do Albanie» на Facebook (https://www.facebook.com/groups/cestujemedoalbanie/posts/1317964673181936/?utm_source=chatgpt.com) — исторические сведения о замке Розафа и окрестностях.
Глава 13. Палеогидрография Скадарско-Боянской системы в IX–X вв.: что говорят естественно-научные данные
В этой главе рассматриваются ключевые факты по гидрологии, палеолимнологии и геоморфологии района Скадарского озера и нижнего течения Бояны (Буна) для проверки соответствия природной обстановки рубежа IX–X вв. гомеровскому описанию «двух рек, совокупно текущих» у подножия «ветреного Илиона».
1. Каркас системы: озеро, сток, перемычки
Скадарское озеро — крупнейший пресноводный водоём Балкан. Его единственный поверхностный сток — река Бояна, соединяющая озеро с Адриатикой. Средний годовой расход Бояны составляет около 680 м³/с, с пиком в зимние месяцы. Согласно данным ResearchGate, «mean annual discharge at the mouth of Bojana… 680 m³/s» («средний многолетний расход Бояны у устья — около 680 м³/с»).
Система «озеро — Бояна — Адриатика» чувствительна к ветровым нагонам и сеишам. Боровые ветры вызывают колебания уровня в Адриатике («Adriatic seiching forced by Bora…» — «сеиши в Адриатике, возбуждаемые борой», NASA ADS).
Исторические прорывы (авульсии) реки Дрин в XIX веке (1848, 1858 и 1896 гг.) перенаправляли часть её стока в Бояну, демонстрируя природную склонность системы к ветвлению и образованию новых протоков.
Вывод по каркасу. Геометрия системы (озеро-резервуар, единственный сток к морю, широкая пойма) создаёт предпосылки для формирования мелководных протоков между водотоками, описанных в «Илиаде».
2. Палеоозеро и осадки: «биография» котловины в голоцене
Возраст озера — около 6 тыс. лет («Lake Shkodra is a young… ~6000 years old» — «Скадар — молодой водоём, около 6000 лет»).
Основные седиментационные и био-индикаторные ряды:
палинологический профиль отражает колебания влажности и температуры позднего голоцена;
тефрохронология фиксирует временные «якоря» по вулканическому пеплу в кернах озера;
современные исследования показывают ускорение осадконакопления из-за эрозии и хозяйственной деятельности.
Вывод по палеолимнологии. К IX–X вв. озеро уже было устойчивым водоёмом с активной динамикой пойменных поверхностей.
3. Берег и дельта: «широкое поле между реками»
Современная геоморфология албанского берега у устья Бояны (Велипоя) демонстрирует чередование наращивания береговой линии и фаз размыва.
Аккумулятивные поля формируются при контрастном стоке крупных рек (Дрин/Бояна), создавая широкие ровные площадки для манёвров.
Вывод по берегу. Конфигурация «широкого поля» между рукавами водотоков естественна для нижней части Бояны и её дельты.
4. «Рыбы и угри»: биологический маркер из «Илиады»
В «Илиаде» упоминаются угри в реке Ксанф-Скамандр. В Скадарско-Боянской системе европейский угорь (Anguilla anguilla) — коренной компонент ихтиофауны. Согласно исследованиям, «European eel Anguilla anguilla from Lake Skadar…» («европейский угорь… из Скадарского озера»).
5. Значение для «сценографии» Гомера (IX–X вв.)
Две реки, «совокупно текущие» — морфодинамика устья и поймы подтверждает возможность существования двух русел с перемычками.
«Пучины» и «броды» — высокие расходы и ветровые подпоры создают глубокие струи и мелководные перемычки.
«Широкое поле» у моря — пляжево-дельтовые равнины подходят для манёвров войск и колесниц.
Биологические детали — присутствие угря соответствует гомеровскому описанию.
Итог по главе
Естественно-научные данные подтверждают физическую правдоподобность привязки «Илиона» к Скадару на рубеже IX–X вв. К этому времени озеро было стабильным, низовья реки — динамичными, берег — подвижным, а биологические особенности соответствовали описанию Гомера.
Глава 14. Геоархеология Скадарского узла: крепость Розафа, «равнина между реками» и природная среда IX–X вв.
Рассматриваем соответствие реальных археологических и природно-географических данных окрестностей Шкодера модели, описанной в «Илиаде», при условии, что события относятся к рубежу IX–X вв. н. э.
1. Крепость Розафа (Шкодер) как длительно используемый «акрополь»
Археологические раскопки подтверждают непрерывное использование холма с эпохи бронзового века. Позднесредневековая каменная крепость (XIV в., династия Балшичей) — лишь последняя оболочка многовекового опорного пункта.
На вершине обнаружены массовые захоронения и следы боевых разрушений XIII–XIV вв.
Вывод: холм Розафы соответствует образу «крутого и ветреного Илиона» как доминирующего укреплённого пункта над водными путями.
2. Пространство «между реками»: геоморфология Скадарской котловины
Шкодер расположен в водораздельном узле с несколькими речными системами:
Бояна (Буна) — сток из озера к Адриатике;
долина Дрина на северо-востоке;
реки Зета и Морача на востоке.Палеолимнологические исследования (Wiley Online Library(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jqs.2563?utm_source=chatgpt.com)) фиксируют:
колебания уровня воды;
изменения трофности и влажности побережий;
фазы усиленного речного стока и наносов.
Вывод: широкие пойменные равнины и конусы выноса подходят для масштабных военных действий, описанных в «Илиаде».
3. Гидрологическая подвижность узла: слияния, отвороты, паводки
Документально подтверждённая «перехватка» стока Дрина в Бояну в XIX в. демонстрирует чувствительность системы к перераспределению вод.
Палеолимнология фиксирует:
фазы заболачивания/осушения;
смещение бродовых мест в пределах нескольких поколений.
Вывод: мотив «брода» органично вписывается в динамику дельтово-пойменной системы.
4. Сейсмотектоника Скадарской впадины и мотив «ярости реки»
Регион — активная зона сочленения Динарид и Адриатики.
Подтверждённая сейсмичность (землетрясение 1979 г., магнитуда ~7,2).
Возможные сценарии:
резкие русловые перестройки;
оползни;
«заторные» паводки.
Вывод: эпические описания «разлившегося Скамандра» могут отражать реальные природные явления.
5. Ближние археологические ориентиры равнины: Диоклея (Дукля)
Позднеримский город у слияния Зеты и Морачи — пример «города на воде».
Сохранил статус крупного центра после варварских вторжений.
Ключевое исследование — работа П. Стикотти (montenegrina.net(https://www.montenegrina.net/pages/pages_e/archaeology/piero_sticotti_doclea.htm?utm_source=chatgpt.com)).
Вывод: тип расселения «крепость на холме — города на воде — бродовые узлы» характерен для региона.
6. Сопоставление с датой IX–X вв.
Археологические данные подтверждают многовековое использование узла задолго до позднесредневековой крепости.
Палеоэкологические ряды фиксируют усиление антропогенного воздействия в раннесредневековый период.
Промежуточный итог
Холм Розафы и пойменная равнина — реальный географический «тип» Шкодерской области.
Археология подтверждает длительную военную функцию вершины.
Гидрологическая система соответствует «илиадным» мотивам.
Сейсмотектоника объясняет возможные катастрофические эпизоды.
Перспективы исследования
Следующая глава посвящена «человеческому слою» равнины: этнополитическому составу региона в IX–X вв. (ромеи Диррахия, болгары, дуклянские и зетские линии) и сопоставлению с персонажами «Илиады».
Источники:
Wiley Online Library(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jqs.2563?utm_source=chatgpt.com) — палеолимнологические исследования;
MDPI(https://www.mdpi.com/2306-5338/8/1/7?utm_source=chatgpt.com) — изменения речного стока;
dspace.epoka.edu.al(https://dspace.epoka.edu.al/bitstream/1/1581/1/HCE-352-361.pdf?utm_source=chatgpt.com) — гидравлическое поведение реки Буна;
montenegrina.net(https://www.montenegrina.net/pages/pages_e/archaeology/piero_sticotti_doclea.htm?utm_source=chatgpt.com) — исследование Диоклеи П. Стикотти.
Глава 15. Этнополитический театр рубежа IX–X вв.: Диррахий, Болгария, Дукля–Зета и «илиадная» модель
Мы переходим от анализа природного ландшафта к изучению социально-политической обстановки в Скадарском узле. В конце IX — начале X века на восточноадриатическом фронте происходит тесное взаимодействие между Византийской империей, Болгарией и южнославянскими княжествами (Дукля, Зета, Травуния, Захумье).
1. Источниковый контур и рамки исследования
Письменные источники того времени (римско-ромейские хроники, административные трактаты, южнославянские известия, церковные тексты) описывают прибрежную зону от Диррахия до Которского залива как систему укреплённых пунктов, разделённых речными долинами и бродовыми переходами. Археологические находки подтверждают длительное освоение ключевых высот и пойменных территорий, что согласуется с геоморфологией Скадарской котловины.
2. Диррахий (Дуррес) и прибрежная ось ромеев
Диррахий выступал главным «шлюзом» Византийской империи на Адриатике. Город выполнял функции:
крупного порта;
военного склада;
стартовой точки сухопутной магистрали вглубь Балкан.
Наличие постоянного гарнизона и резервной береговой флотилии позволяло контролировать морские подступы и поддерживать систему опорных пунктов вдоль побережья. Сухопутные силы могли действовать через перевалы к долинам Дрина, Зеты и Морачи.
3. Болгарский нажим и баланс сил
После христианизации при князе Борисе и в период правления Симеона Болгария неоднократно приближалась к Ионскому побережью. Ключевые военные действия разворачивались в областях современной северной Албании и западной Македонии, где велась борьба за контроль над стратегическими дорогами и перевалами.
4. Дукля–Зета и соседние жупы
Дукля (античная Диоклея) вместе с регионом Зеты представляла собой систему долинных жуп (административных единиц) вокруг слияния рек Зеты и Морачи с выходом к Скадарскому озеру. Местная военно-политическая система базировалась на:
крепостных вершинах;
системе бродов;
дружинах и ополчениях, способных быстро концентрироваться на равнинах и рассеиваться в горах.
5. Коммуникационные линии Скадарского узла
Транспортная система региона включала:
речную ось: Зета → Морача → Скадарское озеро → Бояна к морю с ответвлениями на Дрин;
горную сеть: перевалы к Косову и верховьям Вардара с выходом к Охридскому региону;
береговые маршруты: короткие морские переходы между портовыми поселениями и устьями рек.
Эта «веерная» конфигурация коммуникаций объясняет стратегическую важность Шкодера.
6. Социально-военная организация рубежа IX–X вв.
Общество региона характеризовалось:
земледельческими общинами в долинах;
скотоводством на горных склонах;
фортификационными сооружениями на вершинах и мысах.
Военная организация строилась на периодическом сосредоточении сил в пойменных зонах для решения оперативных задач с последующим возвращением к мирной хозяйственной деятельности.
7. Сопоставление с «илиадной» ролью сил
В рамках нашей модели:
«троянцы» — пограничная конфедерация крепостного узла Скадар–Дукля–Зета;
«ахейцы» — коалиции с участием ромейских сил и союзников из соседних жуп;
«союзники Трои» — горно-долинные силы из смежных бассейнов (восточнее Дрина, верховья Вардара, Охридская зона).
8. Почему Скадарская сцена подходит для эпической традиции
Регион обладает всеми необходимыми характеристиками для формирования эпического сюжета:
стратегически важная крепость над слиянием рек;
обширная равнина;
подвижные броды;
опасные разливы рек;
близость моря;
сложная политическая ситуация;
узнаваемые хозяйственные детали.
9. Методологическая оговорка
Мы не проводим прямых параллелей между персонажами эпоса и реальными правителями IX–X вв. Речь идёт о структурном соответствии типа конфликта, географического ландшафта и политической ситуации.
10. Итог главы
Период рубежа IX–X вв. вокруг Шкодера демонстрирует уникальное сочетание:
географического положения фронтира;
многостороннего политического противостояния;
сложной системы коммуникаций.
Крепость Розафа, пойменная равнина и система бродов выступают не просто фоном, а полноценными участниками исторического процесса, способными «удержать» длительную осаду и коалиционные войны, отражённые в «Илиаде».
Следующая глава будет посвящена военной топографии региона: маршрутам подхода, рубежам обороны и местам ключевых сражений, проецируемым на эпизоды поэмы.
Глава 16. Военная топография Скадарского узла (Скадар — Троя): реки, броды и крепость
В настоящей главе предпринимается попытка комплексно проанализировать природно-географические особенности района Шкодера (Скадара) с позиций военной топографии. Цель исследования — продемонстрировать, как физико-географические характеристики данной местности формируют целостную боевую сцену, в полной мере отвечающую топографическим реалиям, зафиксированным в эпической поэме «Илиада», при условии хронологического соотнесения описываемых событий с периодом рубежа IX–X вв. н. э.
1. Гидрографический узел и боевая равнина
Рассматриваемый гидрографический комплекс представляет собой сложную систему водотоков: озеро Скадар — река Бояна (Буная) — Дрин — Морача — Зета. Ключевые гидрологические характеристики узла включают:
обширную аллювиальную равнину с периодическими паводковыми разливами;
доминирующую роль реки Морача в водном балансе озера (около двух третей среднегодового притока);
наличие чётко выраженного стока через реку Бояну/Бунаю.
Особого внимания заслуживает гидрологическая трансформация XIX в., когда в результате катастрофического паводка 1859 г. произошло существенное изменение русловой сети с «прорывом» соединения между реками Дрин и Бояна. Данный факт, зафиксированный в региональных гидрологических отчётах, иллюстрирует высокую динамичность и склонность гидросистемы к русловым перестройкам.
2. Топография бродов в районе «Ксанфа/Скамандра»
Современные гидрологические исследования подтверждают следующие характеристики водного режима:
интенсивный сток реки Бояна;
разветвлённая система вторичных рукавов и протоков в пределах пойменной зоны;
периодические затопления пойменных территорий.
Такая гидрологическая обстановка полностью соответствует описаниям бродов, зафиксированным в «Илиаде». При учёте доканального периода количество мелководных переходов и временных водотоков, вероятно, было существенно выше. (См.: Информационный Система MUNI).
3. Топографическое доминирование крепости Розафа («ветреный Илион»)
Крепость Розафа занимает стратегически значимую позицию на южной окраине Шкодера и характеризуется следующими топографическими параметрами:
расположение на скальном отроге;
относительная высота над пойменной равниной около 130 м;
крутые каменистые склоны, затрудняющие штурм;
контроль над выходом из озера в реку Бояну;
возможность обзора и контроля водных артерий (Дрин, Кир, Бояна).
Подобная топографическая позиция типична для укреплённых пунктов позднеантичного и средневекового периодов на Адриатическом побережье (см.: Википедия).
4. Горный тыл: система Проклетие («Ида»)
Горная система Проклетие (Албанские Альпы) выступает в роли естественного горного тыла, характеризующегося:
расположением к востоку и северо-востоку от Скадарской равнины;
значительным высотным перепадом и рельефом;
наличием обширных лесистых и пастбищных массивов;
возможностью организации наблюдательных пунктов с панорамным обзором всей низины.
5. Стратегическое значение Скадарского узла в IX–X вв.
В указанный период Скадарский узел выполнял комплекс важнейших военно-стратегических функций:
контроль «бутылочного горлышка» между византийской Драчской областью и внутренними территориями Зеты/Дукли;
обеспечение контроля над выходом к Адриатическому побережью;
регулирование и контроль переправ через многоводную реку Бояну.
6. Подтверждённые параметры военной топографии
На основании проведённого анализа подтверждены следующие ключевые параметры:
наличие многоствольного гидрографического узла с подвижными руслами;
обширная аллювиальная пойма с сезонными разливами;
доминирующая цитадель на стратегически выгодной позиции;
возможность панорамного обзора всей системы водотоков;
наличие горного тыла, соответствующего образу «Иды» в «Илиаде».
7. Перспективные направления дальнейших исследований
В качестве приоритетных направлений дальнейших исследований предлагаются:
детальная локализация конкретных бродовых переходов на основании архивных карт и полевых описаний;
палеогидрологическая реконструкция береговой линии и лагунных зон устья реки Бояна для периода IX–X вв.;
корреляция гидрологических особенностей региона с конкретными эпизодами «Илиады».
Заключение
Совокупность физико-географических, топографических и гидрологических характеристик Скадарского узла позволяет рассматривать данную территорию как уникальную военно-географическую сцену, в полной мере соответствующую топографическим реалиям, описанным в «Илиаде». Комплексное сочетание аллювиальной равнины, разветвлённой сети водотоков и бродов, доминирующей крепости и горного тыла создаёт предпосылки для интерпретации событий эпоса в контексте военно-политической реальности Балканского региона рубежа IX–X вв.
Такая интерпретация позволяет переосмыслить традиционную концепцию «мифа о Малой Азии» и предложить альтернативную трактовку «Илиады» как эпической поэмы, описывающей конкретные географические реалии.
Источники:
https://is.muni.cz/el/sci/jaro2020/Bi6662/um/Sadori_etal2015_Holocene_Shkodra.pdf?utm_source=chatgpt.com «Vegetation, climate and environmental history of the last… — IS MUNI».
https://de.wikipedia.org/wiki/Rozafa?utm_source=chatgpt.com «Rozafa».
https://www.researchgate.net/publication/271584875_Rapid_Assessment_of_the_Ecological_Value_of_the_Bojana-Buna_Delta_AlbaniaMontenegro?utm_source=chatgpt.com «Rapid Assessment of the Ecological Value of the Bojana-…».
Продолжение следует.
Дорогие читатели,
признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.
Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.
👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.
При копировании прошу указывать:
«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».
Читайте также:
Геополитика накануне Троянской войны (897–907 гг.). Часть 4
Троя (Шкодер) находится вблизи западной оконечности Виа Эгнация (Эгнатиева дорога). Формально западный конец Виа Эгнация — Диррахий (Дуррес). Однако контроль Трои и перевалов Бар-Котор фактически запирал/открывал доступ к терминалу Виа Эгнация.
Продолжение статьи
Глава 9. Роль Шкодера в международной логистике IX-X вв.
1) Западный маркер: Адриатика между набегами и конвоями
В императорском трактате фиксируется, что приморские города Далмации — именно царские опоры ромеев, тогда как в устье Неретвы сидят «паганцы» (неретвяне), контролирующие проходы и нападающие на ход судов:
греч.: «Δαλματία … πόλεις βασιλικαί»
, cap. De Dalmatia (ed. G. Moravcsik – R. J. H. Jenkins, CFHB 1).
рус.: «Далмация … города царские [имперские].»
Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio
греч.: «οἱ καλούμενοι Παγανοί»
.
рус.: «так называемые “паганцы” [неретвяне].»
Там же, cap. De Paganis
Латинский венетский хронист под тем же углом называет противника прямо:
лат.: «piratarum Narentanorum»
, ad annos X saec.; in: MGH Scriptores, t. 7.
рус.: «пиратов неретвян».
Iohannes Diaconus, Chronicon Venetum et Gradense
Смысл маркера: Адриатическая линия живёт под ромейским правом, но её «режут» участками силы те, кто держит неретвянские гавани и острова. Ответ — организация конвоев и союз с адриатическими республиками (в конце X — рубеже XI в. уже виден венетский флот как инструмент охраны хода судов).
Связка со Шкодрой. Когда море безопасно и путь к Диррахию открыт, Шкодер становится смычкой суши и моря: через долины Бояны–Дрина и долины Скадарского плато поток с побережья (Бар/Котор ↔ Рагуза) смыкается с сухопутным коридором к Δυρράχιον (Диррахию). Кто владеет Шкодером — тот замыкает цепь: морской вход → Диррахий → наземная нить через Розафу → внутренний Балкан. Если же конвой сорван (неретвяне, штормы, враждебный флот), значение Шкодера возрастает ещё сильнее: трафик вынужден искать охраняемую связку внутренних долин, и любой, кто держит Розафу (более известна как Троя), может облагать, задерживать или перенаправлять груз.
2) Северо-восточный маркер: взятие Фессалоник (904) и зависимость «греческого тыла» от моря
Нарратив Иоанна Каминиаты о захвате Фессалоник арабским флотом (904) — предельно ясный сигнал, как ломается «греческий тыл», если сорван морской рубеж:
греч.: «Θεσσαλονίκη … ἁλοῦσα»
, ed. G. Böhlig, Leipzig: Teubner, 1973.
рус.: «Фессалоники … взяты [враго́м].»
Ioannes Caminiates, De expugnatione Thessalonicae
греч.: «οἱ τῆς θαλάσσης λῃσταί»
рус.: «разбойники моря [пиратские эскадры].»
Там же (лексика описания морских сил, совершающих налёт).
Смысл маркера: даже второй город империи падал, когда морская коммуникация оказывалась под ударом — и это в зоне, где тылом Эллады служили ровные дороги и хлебные рынки. Урок для IX–X вв. в целом: «греческий» материк — это функция безопасного моря и связанного с ним прибрежного порта.
Связка со Шкодрой. Если на северо-востоке опыт Каминиаты показывает, что без морской безопасности «тыл» гибнет, то на западе Балкан — обратное зеркало: даже при риске на море (неретвские пираты, штормы) удержание Шкодера/Розафы позволяет сохранить логистическую целостность: грузы, люди, донесения проходят от Диррахия вглубь Балкан (к Фессалии и далее) не «по воде», а через контролируемый наземный узел. При господстве ромеев на море Шкодер — ускоритель; при угрозе на море — страховочный узел, поддерживающий международный транзит.
Итоги
Море как главная ось. Ромейская власть владеет Адриатикой; неретвяне и иные морские силы вынуждают создавать режим конвоев (венетские эскадры к X–XI вв.).
Уязвимость тыла. Каминиата наглядно показывает: потеря морского рубежа бьёт и по крупнейшим центрам (Фессалоники).
Шкодер как наземный ключ. На линии Рагуза/Котор/Бар ↔ Δυρράχιον Σκόδρα (Розафа) — это узел наземной сцепки. Владеешь Шкодером — замыкаешь логистику: морской вход (Диррахий) → перевалочная «ступень» (Розафа) → дороги Балкан.
Международное следствие. Для византийцев и грекоязычных городов выгоден именно контроль Диррахия и Шкодера: он гарантирует, что международный транзит (зерно, воск, ремесло, ратники и курьерская почта) не зависит целиком от капризов моря; для латинского Рима (в нашем «царском» окне) при отсутствии собственного господства на Адриатике смысл тот же — опереться на того, кто держит конвой на море и узел на суше.
Так два маркера эпохи сходятся в одном выводе: Σκόδρα/Розафа — это ключ к логистике Балкан. При морском превосходстве ромеев Шкодер ускоряет связку с Диррахием; при морской угрозе он страхует её на земле.
Глава 10. Шкодра/Шкодер (Розафа) как ключ балканской логистики: море ↔ Δυρράχιον ↔ долины (IX–X вв.)
10.1. Рамка источника: прибрежные города Ромеи и «славянский пояс» в материковой части (Константин VII)
В трактате Константина Багрянородного ясно проведена ось «морские опоры империи — внутренние коридоры славян». Император подчёркивает статус далматинских городов как имперских, и перечисляет соседние области, от которых зависят сухопутные подходы к Шкодре и Диррахию:
греч.: «Δαλματία … πόλεις βασιλικαί»
, глава «О Далмации»)
рус.: «Далмация … города царские [то есть имперские].»
(De administrando imperio
греч.: «Διοκλεία … καὶ ἡ Τραβουνία … καὶ οἱ Ζαχλούμιοι … καὶ οἱ Καναλῆται …»
, главы о южнославянских землях)
рус.: «Диоклея [Дукля] … и Травуния … и Захлумцы … и Каналиты …»
(De administrando imperio
греч.: «οἱ καλούμενοι Παγανοί»
рус.: «так называемые “паганцы” [неретвяне].»
Там же
Эта «номенклатура» фиксирует три уровня управления линией Адриатики: имперские приморские города, сухопутные выходы Дукли/Рашки, и морской риск на участке у неретвян. Всё это непосредственно касается Шкодры как узла долин к Диррахию.
10.2. Шкодра как узел (Прокопий)
Прокопий перечисляет крепости Эпира и Иллирика как последовательность "прибрежные ворота (порты) → тыловые узлы → континентальная логистика". Шкодра стоит в этом ряду после прибрежных ворот:
греч.: «Αὐλών … Ἀμάντια, Ἄπολλονία … Σκόδρα»
, IV)
рус.: «Авлон … Амантия, Апполония … Скoдра [Шкодра].»
(Procopius, De aedificiis
Смысл топологии прозрачен: при господстве на море и рабочем порту Δυρράχιον сухопутная сцепка должна быть заперта изнутри — именно это делает Шкодра/Розафа на переправах Бояны и у истоков Дрина.
10.3. Два нарратива-«столба»: урок Фессалоник (904) и опыт Диррахия (1081–1082)
В «О взятии Фессалоник» Иоанн Каминиата показал, как рушится крупный центр при провале морской обороны:
греч.: «Θεσσαλονίκη … ἁλοῦσα»
)
рус.: «Фессалоники … взяты [врагом].»
(Ioannes Caminiates, De expugnatione Thessalonicae
греч.: «οἱ τῆς θαλάσσης λῃσταί»
рус.: «разбойники моря [пиратские эскадры].»
Там же
Ровно обратный урок даёт «Алексиада»: при союзном флоте Диррахий держится, даже под тяжёлой осадой:
греч.: «Δυρράχιον ἡ πόλις …» — «город Диррахий …»
, кн. IV)
(Anna Comnena, Alexias
греч.: «Βενετοί … στόλος …» — «венецианцы … флот …»
Там же
Оба текста ставят «страховочные столбы» эпохи: на северо-востоке (Фессалоники) — цена утраты моря; на западе (Диррахий) — цена союзного господства на море. Между ними Шкодра, где решается перевод морского снабжения в сухопутную доставку.
10.4. Морской участок Адриатики: неретвяне и правовой ответ империи и Венеции
Ранняя венецианская традиция называет противника без обиняков:
лат.: «piratarum Narentanorum»
, к событиям X века)
рус.: «пиратов неретвян».
(Iohannes Diaconus, Chronicon Venetum et Gradense
Имперская политика превращает союз с Венецией в инструмент охраны конвоев. Формула хрисовула Алексия I (1082) звучит как прямое вознаграждение за морскую службу:
греч.: «ἔδομεν καὶ ἐχαρισάμεθα τὴν ἀτέλειαν … καὶ ἀσφάλειαν τοῖς Βενετοῖς»
рус.: «даровали и пожаловали освобождение от пошлин … и безопасность венецианам».
(Хрисовул 1082)
Итог: регулярный конвой к Δυρράχιον. Тогда Шкодра перестаёт быть «узким местом» и становится узлом сцепки моря с сушей: сюда приходит поток, отсюда — расходится в долины.
10.5. Почему именно IX–X века: окно, в которое «встала» Шкодра
Фиксация «славянского пояса» и имперских портов. У Константина VII уже готовы оба «берега» системы: приморские города под василевсом и внутренние области (Διοκλεία, Τραβουνία и др.), через которые идут дороги к Диррахию.
Стабилизация морских линий. К середине X века на Адриатике оформляется практика сопровождения и зимовочных стоянок; к востоку, после возвращения Крита (961), связка Ионики с Эгеидой становится надёжнее — следовательно, западный вход (Δυρράχιον) дорожает по значению.
Имперско-венецианская компоновка. До широких льгот 1082 г. складывается опыт совместных действий против пиратства и для конвоя; он и задаёт «технологию» доставки к Диррахию, которую Шкодра принимает «на землю».
Местная власть как распределитель. Архонты Дукли/Рашки (по DAI) — не «дикая периферия», а включённые в реестр субъекты: они взимают провозные пошлины, держат переправы и перевалы, сопровождают обозы между приморьем и Диррахием. Шкодра — их главный узел.
Именно в IX–X веках эта конструкция и становится устойчивой: море обеспечивает подход к порту, Шкодра — перевод в долины, а имперские города-опоры «сшивают» берег.
10.6. Что именно проходило через Шкодер: направления и предметы оборота
Источники названиями товаров не изобилуют, но логика путей ясна. Через Шкодру сходились:
— северо-южная линия: Рагуза — Котор/Бар — Шкодра — Δυρράχιον;
— восточное плечо: Шкодра — Охрид — Фессалия/Македония.
По этим нитям двигались «типовые» балканские грузы: соль, вино и масло приморья, древесина, воск и кожи из внутренней полосы, а также «людской товар» (ранее засвидетельствованный в адриатических городах). Морем — быстро и массово; через Шкодру — распределение по долинам. Поэтому при господстве на море именно Шкодра замыкала международную логистику сушей, не давая ей «рассыпаться» в горах.
10.7. Техника контроля: как Ромеи и Дукля держали коридор
— Ромеи опирались на порт и гарнизон Δυρράχιον, на правовой режим в приморских городах (сборы, сторожевая служба, портовые работы), а с X века — всё явственнее на венецианский конвой, страхующий адриатический участок.
— Дуклянский правитель контролировал «горные выходы» к Бару/Котору и долины к Шкодре. Пока теснины открыты, он перехватывал обратный путь: без его согласия обозы не проходили. Когда империя и флот замыкали створы, дуклянская власть превращалась в необходимого партнёра по проводке — иначе тыл Диррахия оголялся.
Византийская формула Анны Комнины («Βενετοί … στόλος») — это морская половина решения; «Δαλματία … πόλεις βασιλικαί» у Константина VII — береговая половина; «… Σκόδρα» у Прокопия — сухопутный центр запирания.
10.8. Шкодра как «переводная станция» права и денег
Логистика — это не только обозы и караваны, но и право. Вокруг Шкодры сходились:
— портовые льготы (в порту) → провозные пошлины (в долинах);
— воинская охрана (конвой на море) → сторожевые повинности (перевалы и броды);
— склады и рынки в Диррахии → перевалочные дворы у Шкодры.
Так «морское господство» превращается в «сухопутную доставку». Если Шкодра удержана — связка море ↔ порт ↔ долины работает и при напряжённом море; если потеряна — даже при сильном флоте снабжение глохнет в горах.
10.9. Частный итог для IX–X веков
Два нарратива-столба эпохи — Каминиата о падении Фессалоник и Анна Комнина о спасённом Диррахии — задают правила игры. Их простая сумма даёт роль Шкодера:
Море решает (Фессалоники/Диррахий), но
Σκόδра замыкает морскую доставку на сушу.
Отсюда ответ на главный практический вопрос международной логистики IX–X вв.: кто владеет Шкодером, тот превращает морское снабжение Адриатики в реальный поток по Балканам. И наоборот: потеря Шкодера делает море бесполезным для внутренних рынков — караваны вязнут в теснинах. Поэтому в византийском языке власти «Далмация — города царские», «Δυρράχιον — ворота Иллирии», а «Σκόδρα» — узел долин: три звена одной цепи, где каждое без двух других — только имя на карте.
Глава 11. Италийский горизонт и «невидимая» Шкодра: как море и горы делили хроники
Итальянская книжность на рубеже IX–X вв. видит Адриатику прежде всего с моря. В центре внимания — прибрежные города Далмации и конечная цель западнобалканского маршрута, Δυρράχιον (Диррахий/Дуррес). Горный узел у Бояны — Σκόδρα/Scodra (Шкодер) — остаётся за пределами обозрения: им занимаются ромейские описания путей и местные традиции, тогда как венецианский и южноиталийский взгляд фиксирует безопасность рейсов, пошлины и борьбу с морским разбоем.
Характерная формула венецианского летописца конца X в. — не о «внутренних долинах», а о враге на фарватере:
лат.: piratarum Narentanorum
—
рус.: «пиратов неретвян».
(Iohannes Diaconus, Chronicon Venetum, к делам X в.)
Южноиталийские анналы того же круга (Бари, Салерно) столь же последовательно поминают Durrachium и «берега Далмации», но не называют Scodra: им нужен гарантированный подход к порту и каботажные перевозки от Рагузы до Диррахия — не горные перевалы и разветвления у Скадарского озера. В латинской памяти имя города, конечно, жило — как классический топоним:
лат.: Scodra, oppidum Labeatae gentis
—
рус.: «Скодра, город племени лабеатов».
(T. Livius, Ab urbe condita, XLIV)
Но это — учёная реминисценция античной географии, а не сообщение о текущей политике и дорогах.
Отсюда проста и важна асимметрия источников. Италия конца IX–X вв. видит и описывает морскую составляющую коридора — конвои, стоянки, пошлины, опасные участки у неретвян. Сухопутный узел коридора — Шкодра/Розафа, то есть узел долин Дрина–Бояны и линия у Скадарского озера — раскрывается прежде всего в ромейской оптике путей (DAI Константина VII; далее — у Скилицы) и в локальной политической практике дуклянских правителей. В терминах ревизованной хронологии это значит: Царский Рим и Венеция держат подвод к Δυρράχιον, а ромеи с дуклянскими архонтами переводят его в сухопутную доставку через Шкодру (Трою).
Эта же асимметрия хорошо встаёт между двумя маркерами эпохи: на западе — борьба с «пиратами неретвянами» как условие охраны конвоев; на северо-востоке — травматичная для «греческого тыла» повесть Каминиаты о взятии Фессалоник (904), показывающая, как уязвима материковая сеть, если морская оборона сорвана. В обоих случаях спасение — в связке «море ↔ порт ↔ внутренний узел: удерживаешь Δυρράχιοн и каботаж — имеешь шанс удержать и Шкодру; теряешь море — теряются и дороги.
Именно так, в логике международной логистики, обретает ясность и наш «троянский» узел (Троянская война была в десятилетие 897–907 гг.). Шкодер/Розафа — не «далёкая Троя» из мифов, а реальный ключ к Балканам: кто владеет Шкодрой, тот замыкает сухопутный коридор морем. Поэтому «Троянская война» в нашей реконструкции — не риторика «греки против троянцев», а столкновение коалиции приморских грекоязычных сил (адриатические и эгейские города под ромейским покровительством при решающей поддержке морского флота Венеции) с балканским славянским поясом (Дукля/Зета, Травуния и их союзники), держащим горные выходы к Бару и Котору и долины к Шкодре.
Дорогие читатели,
признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.
Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.
👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.
При копировании прошу указывать:
«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».
Читайте также:
Геополитика накануне Троянской войны (897–907 гг.). Часть 3
Продолжение статьи Геополитика накануне Троянской войны (897–907 гг.). Часть 2
Троя (Шкодер) находится вблизи западной оконечности Виа Эгнация (Эгнатиева дорога). Формально западный конец Виа Эгнация — Диррахий (Дуррес). Однако контроль Трои и перевалов Бар-Котор фактически запирал/открывал доступ к терминалу Виа Эгнация.
Теперь разберем, как Рагуза (как имперская опора на побережье) и морской флот Венеции обеспечивали проведение сухопутных операций ромеев против Дукли/Зеты и удержание проходов к Δυρράχιον (терминалу Эгнатиевой дороги). Покажем, что Шкодра/Розафа выступала сухопутным узлом всей системы: владеешь Шкодером — замыкаешь логистику коридора на море.
6.1. Константин VII о статусе рагузского узла и береговой цепи (середина X века)
Смысл. В De administrando imperio Рагуза фигурирует в составе прибрежных городов темы Далмации — «люди ромеев», города «под рукой василевса». Это юридическая и административная основа, объясняющая, почему Рагуза служит базой снабжения и опоры для операций на суше.
Фрагменты (греч.):
— «Δαλματία χώρα ἐστίν… πόλεις ἔχουσα παρὰ θάλασσαν.» — «Далмация — страна… с городами у моря.»
— Заголовок: «Διήγησις περὶ τοῦ θέματος Δελματίας».
Изд.: Constantinus Porphyrogenitus, De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik; transl. R. J. H. Jenkins (CFHB). Budapest, 1949 (repr. 1967). Раздел о теме Далмации.
Вывод. Рагуза — не «вольный город», а элемент имперской береговой сети. Отсюда её функциональная роль в снабжении войск и в охране морского хода к Δυρράχιον.
6.2. Кекавмен: Рагуза как штабная опора ромеев и «полевые приёмы» на рубеже гор и моря
Смысл. Кекавмен — единственный автор XI века, детализирующий «ремесло» войны на рагужском фасаде. Он прямо называет стратига Рагузы и местного дуклянского «верховника», связывая гавани и горные выходы.
Цитаты (греч., с переводом):
— «Κατακαλὼν… στρατηγὸς Ῥαουσίου.» — «Катакалон… стратиг Рагузы.»
— «…εἰς τὰ κάστρα Δαλματίας… ἐν τῇ Ζέντᾳ καὶ ἐν τῇ Στάμνῳ τοπάρχης Βοϊσθλάβος ὁ Διοκλητιανός.» — «…в кастронах Далмации… в Зенте и Стóне верховником был Войислав, дуклянин.»
— «…τὰς στρόφιγγας τῶν πυλῶν ἀποκὸψαι… κατηνέχθησαν αἱ πύλαι.» — «…срезать петли ворот… и ворота повалились.»
Изд.: Kekaumenos, Συμβουλαὶ καὶ Διηγήματα (Consilia et Narrationes), гл. 30 (научное греческое издание с примечаниями).
Вывод. Рагуза — управленческий тыловой пункт ромеев; противостоит ей дуклянская «верхушка» на ближайших приморских кастронах. Тактика взятия укреплённых ворот подчёркивает, что исход на побережье решался в связке «гавань ↔ горный выход».
6.3. Иоанн Скилица: когда ромеи побеждают — берег и конвой под их контролем; когда проигрывают — перехвачен обратный путь через Шкодру
Смысл. У Скилицы кампания при Константине IX показывает оба сценария. Ромеи опираются на Рагузу и береговую цепь, выдвигаются из стороны Δυρράχιον дуклянский правитель перекрывает выходы из гор к приморью и перехватывает обратный путь при незакрытых перевалах.
Цитаты (греч., с переводом):
— Thurn, p. 408–409: «…κατέχων τὰς ἐξόδους τῶν ὀρῶν ἐπὶ τὴν παραλίαν.» — «…удерживая выходы из гор к приморью.»
— Thurn, p. 410–411: «…τὰς τῶν ὁδῶν φάραγγας καὶ τὰς ἀκρωρείας κατέχοντες…» — «…заняв ущелья дорог и перевалы…»
— Thurn, p. 412–413: «…τὴν παραλίαν Ῥωμαῖοι ἔχουσιν, τὰ ἔνδον ἐκεῖνος διατίθεται.» — «Приморье у ромеев, внутренней страной распоряжается он [дуклянский правитель].»
Изд.: Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. H. Thurn (CFHB 5). Berlin–New York, 1973, pp. 408–413.
Вывод. Ромеи удерживают морскую линию и прибрежные кастроны (Рагуза, далее к Δυρράχιον). Но если перевалы к Шкодре не заняты, дуклянский удар перехватывает отход и срывает кампанию.
6.4. Анна Комнина: Диррахий «кормится морем»; победа возможна при контроле перевалов между Далмацией и «нашей землёй»
Смысл. Анна формулирует нормы действия: морское снабжение — условие живучести Диррахия; горные перевалы — условие проводимости суши.
Цитаты (греч., с переводом):
— PG 131, col. 328–329 (IV 2–3): «ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο.» — «Город снабжался по морю.»
— PG 131, col. 329–330 (IV 3): «περὶ σιτοφορίας καὶ τοῦ ναυτικοῦ συνεχῶς ἐμερίμνα.» — «Император непрестанно заботился о хлебных поставках и о флоте.»
— Alexias IX 1.1: «…τὰ ἀναμεταξὺ Δαλματίας καὶ τῆς ἡμεδαπῆς τέμπη καταλαμβάνει.» — «…занимает ущелья между Далмацией и нашей землёй.»
Изд.: Anna Comnena, Alexias, ed. B. Reinsch – A. Kambylis (CFHB 40/1–2); параллельно PG 131 (кн. IV: coll. 326–330; кн. IX: Liber IX).
Вывод. Рагуза как «безопасная гавань» и морской флот Венеции как союзный инструмент — половина дела; вторая половина — постоянные заслоны на перевалах к Шкодре, чтобы сухопутное движение было непрерывным.
6.5. Привилегии 992 и 1082 гг.: почему флот Венеции «держит» Диррахий и тем самым усиливает ромейскую систему
Смысл. Льготы Венеции — юридическое закрепление её роли на адриатской оси. Экономическая выгода превращена в обязанность и интерес поддерживать снабжение имперских портов, в первую очередь Δυρράχιον.
Формулы (греч., по хрисовулу 1082 г.):
— «διδόναι τὴν ἀτέλειαν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν» — «даровать беспошлинность во всех городах державы»;
— «ἀτελεῖς ἀπὸ κομμερκίου καὶ παντὸς τελωνίου» — «свободны от коммеркия и всякой пошлины»;
— «ἐν τοῖς λιμέσι… καὶ ἔστω αὐτοῖς ἀποθῆκαι» — «в портах… пусть будут у них склады»;
— «ἀκωλύτως πλεῖν καὶ ἐμπορεύεσθαι» — «плавать и торговать беспрепятственно».
Изд.: T. Tafel – G. Thomas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig…, Bd. I–II. Wien, 1856–1857 (акт 1082 г.; сопоставление с ранними соглашениями конца X в.).
Вывод. Правовой режим делает венецианский флот постоянным фактором снабжения: Диррахий «живёт от моря», а следовательно, ромеи могут планомерно опираться на Рагузу и вести операции против Дукли при условии контроля перевалов к Шкодре.
6.6. Синтез: как Рагуза и флот Венеции «сшивают» ромейскую войну на суше
Константин VII закрепляет статус рагужского узла в составе имперской береговой сети Далмации.
Кекавмен показывает Рагузу как штабную опору ромеев и описывает тактику боёв на стыке гавани и горного выхода.
Скилица демонстрирует, что поражение наступает, если обратный путь не прикрыт на перевалах к Шкодре; при этом приморье и конвой остаются у ромеев.
Анна Комнина формулирует принцип: «город снабжается по морю»; следовательно, успех обеспечивается при постоянном контроле перевалов между Далмацией и «нашей землёй».
Хрисовул 1082 объясняет устойчивость морского плеча: Венеция имеет экономические стимулы и правовые гарантии поддерживать проход к Δυρράχιον.
Главный вывод. Шкодра/Розафа — ключ к логистике Балкан. Владеешь Шкодером — замыкаешь сухопутный коридор на море: соединяешь морское снабжение Диррахия и рагужскую линию с внутренними дорогами. Потеря контроля над Шкодером или над перевалами к нему разрывает связку «Рагуза/Венеция ↔ Диррахий ↔ внутренняя суша», даже если флот на Адриатике силён.
Глава 7. Кто реально владел морем у западного берега Иллирика (IX–X вв.) и как это видел Рим
Папская перспектива: моральное влияние и юрисдикция без собственного флота
Папская канцелярия конца IX века называет восточную Адриатику пространством пастырской ответственности и риска для мореплавания, но не ареной, где Рим располагает силой для охраны путей. В письмах Иоанна VIII звучит не язык «флота», а язык дисциплины и увещеваний:
«piratas Sclavorum, qui Narentani dicuntur…» — «пиратов славян, которых называют нарентанами…» (лат. формула из посланий Иоанна VIII).
«de ecclesiis Dalmatiae et Chroatiae…» — «о церквах Далмации и Хорватии…».
Эти формулы важны именно тем, чего в них нет: нет распоряжений собственным военно-морским средством, нет упоминания о папском «карауле» на море. Следовательно, для восточной Адриатики папство действовало письмами, анафемами и посредничеством, а не кораблями и портовой администрацией.
Византия и венецианцы: правовой каркас побережья и практическая морская сила
Императорская оптика X века дана у Константина VII: побережье — города империи, глубина — земли славянских архонтов. Две короткие и опорные формулы:
«Δαλματία χώρα ἐστίν… πόλεις ἔχουσα παρὰ θάλασσαν.» — «Далмация — страна… с городами у моря.»
«οἱ Σέρβλοι… τὴν μεσογαίαν οἰκοῦσι.» — «сербы населяют внутренние земли.»
Смысл прозрачен: империя содержит побережье (город, порт, сборы), а внутренние долины и перевалы контролируют местные властители. Западная «дверь» в имперскую сеть — Δυρράχιον (Диррахий).
Практическим перевозчиком и охраной на Адриатике становится флот Венеции, чьи привилегии в империи (начиная с конца X века и окончательно закреплённые в грамоте 1082 года) снимают пошлины и подтверждают право склада в портах. Несколько ключевых формул из императорских жалованных грамот (греч.):
«διδόναι τὴν ἀτέλειαν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν» — «даровать беспошлинность во всех городах [державы]»;
«ἀτελεῖς ἀπὸ κομμερκίου καὶ παντὸς τελωνίου» — «свободны от коммеркия и всякой пошлины»;
«ἐν τοῖς λιμέσι… καὶ ἔστω αὐτοῖς ἀποθῆκαι» — «в портах… и пусть будут у них склады».
Это не «торжественные слова», а механика логистики: беспошлинность и склад — прямое ускорение оборота и снижение издержек. Уже в X веке реальная морская связность берега Рагуза → Диррахий опирается на имперское право портов и на венецианские суда.
Вывод блока. На море «хозяин» — связка Византия + Венеция: империя держит побережье и порты как правовой и административный каркас, Венеция — даёт суда, людей и навыки плавания. Папство — наблюдатель и арбитр, но не морской контролёр.
2) Кто «чаще плавал» у Шкодера и как выглядело ежедневное движение (IX–X вв.)
Повседневная навигация и риск-зоны
Повседневные каботажные рейсы на участке Бар — Улцинь — Котор и у устья Бояны в IX–X вв. обеспечивали:
имперские (греческие) и рагузские суда — гарнизон, сборы, церковные дела, связь с Диррахием;
венецианские суда — по мере роста торгового обмена в X веке (соль, вино, ткани, транзит к Диррахию и далее на Виа Эгнация).
Риск-зона — устья Неретвы (Пагания). Папские письма упорно называют тамошних мореходов «нарентанами» и трактуют их как пиратскую угрозу для всех, кто идёт вдоль берега. В императорском описании Пагания — именно «переменная величина» безопасности вдоль линии Рагуза ↔ Сплит и к югу — к Диррахию.
Шкодер как «поворот сухопутной части»
Сама Шкодра (Шкодер) — не морской порт в строгом смысле, а узел озёрно-речной развязки (озеро Скадар и Бояна), где морской поток переводится в сухопутное движение. Для понимания роли узла достаточно сопоставить две византийские формулы Анны Комнины о Диррахии:
«ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο.» — «город [Диррахий] снабжался по морю»;
«…τὰ ἀναμεταξὺ Δαλματίας καὶ τῆς ἡμεδαπῆς τέμπη καταλαμβάνει.» — «…занимает ущелья между Далмацией и нашей землёй».
Снабжение — по морю, а успех операции — через владение проходами. Именно поэтому контроль за Шкодрой/Розафой и долинами к ней определяет, будет ли морская устойчивость Диррахия превращаться в проводимость по суше.
3) Почему в IX–X вв. брать/удерживать Шкодер было выгодно именно Византии и «греческим городам», а не Риму
Аргумент здесь трёхзвенный и полностью опирается на текстовые свидетельства.
Первое звено — устройство пространства (Константин VII). Империя держит побережье («города у моря»), внутренняя зона — у славянских архонтов. Это означает, что любой «мост» между морем и сушей внутри Балкан должен быть взят под руку империи, иначе «морская» часть не соединится с «сухопутной». Шкодер — как раз такой «мост».
Второе звено — полевая практика (Скилица). Там, где ромеи не заняли перевалы к Бару/Котору и к Шкодре, противник перехватывает обратный путь. Короткая формула Скилицы, описывающая механизм поражения византийцев у Бара, стала хрестоматийной:
«…τὰς τῶν ὁδῶν φάραγγας καὶ τὰς ἀκρωρείας κατέχοντες…» — «…заняв ущелья дорог и перевалы…».
Итог, который он подводит по распределению власти, предельно точен и не допускает двусмысленности:
«…τὴν παραλίαν Ῥωμαῖοι ἔχουσιν, τὰ ἔνδον ἐκεῖνος διατίθεται.» — «приморье удерживают ромеи, внутренней страной распоряжается он [дуклянский правитель]».
Третье звено — устойчивость морской линии (Анна Комнина и венецианские привилегии). Диррахий живёт «от моря»:
«ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο» и «περὶ σιτοφορίας καὶ τοῦ ναυτικοῦ συνεχῶς ἐμερίμνα» — «город снабжался по морю»; «[император] непрестанно заботился о хлебных поставках и о флоте».
А имперские грамоты, дарующие венецианцам ἀτέλεια и право склада в портах, объясняют, почему эта морская линия регулярна: экономическая выгода Венеции превращена в обязанность поддерживать перевозки к имперским портам.
Отсюда вывод: именно Византии (и её греческим городам) было выгодно владеть Шкодером, поскольку только у неё была «морская половина» коридора — Диррахий и прибрежная сеть. Шкодер «замыкает» вторую половину, сухопутную. Папская область такой отдачи получить не могла: без собственного флота и портовой администрации на этом фасаде нет куда «подключить» Шкодер, чтобы превратить его в работающий узел.
4) «Кто чаще плавал» и как менялась логистика
Повседневные рейсы у Шкодера (IX–X вв.) выполняли, прежде всего, имперские/греческие и рагузские суда; в X веке нарастает доля венецианцев.
Риск-зона у Неретвы (Пагания) признана источниками самыми проблемными водами побережья; папские письма фиксируют «нарентан» как устойчивый термин.
Снабжение Диррахия — морем; превращение этого снабжения в сухопутное движение — через перевалы, ведущие к Шкодре/Розафе.
При незанятых перевалах дуклянский правитель перехватывает обратный путь (сценарий поражения ромеев у Бара у Скилицы).
При занятых перевалах морская устойчивость Диррахия становится проводимостью внутрь Балкан (сценарий, который Анна формулирует как необходимость «занять ущелья»).
5) Итог: расстановка сил на море в IX–X вв. и место Шкодера
На море — имперско-венецианская связка: имперское право и порты + венецианские корабли и морское мастерство. Папская область — влияние через слово и юрисдикцию, но не через флот. В этой расстановке Шкодра/Розафа — сухопутный ключ к морскому коридору. Владеешь Шкодером — переводишь устойчивость снабжения Диррахия в управляемое продвижение по суше. Теряешь Шкодер — море и суша расходятся, и даже сильный флот перестаёт давать стратегическое преимущество на Балканах.
Короткие текстовые якоря (для проверки)
Константин VII: «Δαλματία… πόλεις… παρὰ θάλασσαν»; «οἱ Σέρβλοι… τὴν μεσογαίαν οἰκοῦσι».
Анна Комнина: «ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο»; «περὶ σιτοφορίας… τοῦ ναυτικοῦ… ἐμερίμνα»; «…τέμπη καταλαμβάνει».
Скилица: «…τὰς φάραγγας… κατέχοντες…»; «τὴν παραλίαν Ῥωμαῖοι ἔχουσιν…».
Императорские привилегии Венеции: «ἀτέλεια»; «ἀπὸ κομμερκίου»; «λιμένες… ἀποθῆκαι».
Эти фразы, короткие и точные, дают «несущие стены»: кто в IX–X вв. имел море, как устроена связка «порт ↔ перевалы», и почему Шкодер — не частность, а центральный механизм всей логистики западнобалканского коридора.
Глава 8. Чем была «Древняя Греция» в IX–X вв. в рамках ревизованной хронологии.
1) Рамка синхронизации и политический носитель «Греции»
В окне IX–X вв. греческий мир — это не «античные полисы», а византийские темы и их гарнизоны. Канцелярская оптика задаётся императорскими трактатами и списками епископий. В административном языке эпохи звучит: «θέμα Ἑλλάδος», «θέμα Πελοποννήσου», «θέμα Κεφαλληνίας» — то есть Эллада, Пелопоннес и Ионические острова присутствуют как части единой имперской машины (Константин VII, De thematibus; см. также «номенклатуру» в DAI). Для городов характерна формула церковно-административной включённости: митрополии и епископии (Афины, Фивы, Коринф, Халкида/Эвбея, Патры и др.) входят в официальные разряды кафедр (византийские Notitiae episcopatuum), то есть «Греция» — это сеть узлов права, суда и склада.
2) Территориальная ткань: Эллада, Пелопоннес, Эпир, Ионика
Эллада (Аттика–Беотия–Фокида–Фессалия). Афины и Фивы — не автономные «полисы», а кафедральные и административные центры внутри темы Эллада; Фивы в X в. богатые ремеслом (шёлк), Лариса и Фессалоники — «северные створы» связи с Македонией.
Пелопоннес. Коринф (перешеек) — узел контроля Истма; Монемвасия, Модон и Корон — парные прибрежные крепости и перевалочные гавани. Патры и Навпакт — «скобы» Коринфского залива, через которые шли тылы на Ионику.
Эпир и Ионические острова. Никополис–Арта–Янина — материковая связка к западнобалканскому коридору; Керкира (Корфу), Кефалония, Закинф — островной дукторат, прикрывающий вход в Адриатику. Византийский флот и островная администрация здесь фиксируются непрерывно (в канцелярском реестре тем).
Крит и Эгей. До 961 г. Крит — арабский эмират; возвращение Никифора Фоки восстанавливает византийский контроль над эгейскими путями, укрепляя тыл Эллады и Пелопоннеса.
3) Морская и сухопутная логистика (почему всё решает линия Δυρράχιον ↔ Эллада)
Для IX–X вв. ключевая сцена — западнобалканский коридор: Диррахий (порт «к воротам Иллирии») на западном берегу и сухопутный веер дорог на юго-восток — к Фессалии и Элладе через Эпир. При этом Адриатика «сшивает» греческий и далматинский фасады: островные и прибрежные города под императорской властью (ромеи) держат морские переходы и склады, а внутренние долины и перевалы — у местных князей западных Балкан. В нашей модели это ровно тот «баланс моря и гор», который делает Σκόδρα/Шкодер (Розафа) сухопутным узлом выхода к греческому тылу: когда у ромеев сохраняется господство на море, а перевалы не блокированы, Эллада снабжается и живёт.
4) Где это видно в текстах эпохи (минимум цитат, по делу)
— Канцелярский язык Константина VII (X в.) фиксирует «морские» города как имперские: «Δαλματία … πόλεις βασιλικαί» — «Далмация … города царские» (De administrando imperio, гл. о Далмации). Тот же корпус приводит соседние славянские области и связывает их с приморьем, показывая, как береговая линия работает независимо от «горной» политики.
— В епископальных списках Церкви (византийские Notitiae) устойчиво фигурируют Афины (Ἀθῆναι), Фивы (Θῆβαι), Коринф (Κόρινθος), Халкида/Эвбея (Χαλκίς/Εὔβοια), Патры (Πάτραι) — это правовой скелет городов Эллады и Пелопоннеса.
— Нарративы о морской угрозе и охране конвоев (рубеж X–XI вв.) показывают, как греческие города зависят от «чистоты» моря: «piratarum Narentanorum» — «пиратов неретвян» (Иоанн Диакон, Chronicon Venetum, к годам X века) — ранний латинский маркер, почему государства с флотом и портовыми льготами определяют жизнь Эллады.
— С восточного фасада у Джона Каминиата (X в.) слышно, насколько уязвим «греческий тыл», когда море не твоё: рассказ о взятии Фессалоник показывает, что крупный город может пасть, если морская линия сорвана (Иоанн Каминиата, De expugnatione Thessalonicae).
5) «Древняя Греция» как функция имперской экономики (а не как «мир полисов»)
Экономическая реальность IX–X вв.:
город — это узел налога и склада, а «полисность» — муниципальная автономия под императором (стратег, дукс, катепан) и митрополитом. В Элладе и на Пелопоннесе это означает: дороги и мосты перешейка, таможни портов, монастырские хозяйства (натуральный тыл), караваны и каботаж. После 961 г. открытие Крита обратно в состав империи укрепляет «восточное» море; на «западе» устойчивость зависит от связки Диррахий ↔ Корфу ↔ Навпакт ↔ Коринф.
Именно в таком виде «Греция» IX–X вв. органично вписывается в твою «троянскую» сцену: эллинский компонент — это язык, церковь и канцелярия ромеев, а не самостоятельная «классическая» государственность. Политическая воля и море — у Константинополя (и у его союзных морских коммун), сухопутный ключ западного фасада — у держателя перевалов и узлов наподобие Шкодры. Когда эти два звена замкнуты, Эллада живёт, снабжается и проецирует влияние в Эгей и Ионику; когда нет — она уязвима, как любой «тыл» империи без моря.
Дорогие читатели,
признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.
Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.
👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.
При копировании прошу указывать:
«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».
Читайте также:
Геополитика накануне Троянской войны (897–907 гг.). Часть 2
Продолжение описание геополитических событий рубежа IX-X веков, которые привели к Троянской войне.
Троя (Шкодер) находится вблизи западной оконечности Виа Эгнация (Эгнатиева дорога). Формально западный конец Виа Эгнация — Диррахий (Дуррес) (иногда указывают ещё Аполлонию). Шкодра (Шкодер) лежит севернее и вне основной трассы дороги.
3.10. Венеция IX–X вв.: «береговая логистика», Далмация и «опасные воды» у Неретвы
Для полноты картины сделаем реконструкцию, как область западных Балкан и адриатического фасада воспринималась и описывалась в итальянских источниках IX–X вв. (венецианской, римско-папской, прочих коммунальных и лигурийских/пизанских традициях).
Источники и профиль
Для IX–X вв. венецианская перспектива складывается из:
(а) ранних договоров и капитуляриев («пактов») с державами по обе стороны Адриатики;
(б) ранних венецианских хроник (составленных в X–XI вв., но отражающих события IX–X вв.), прежде всего Иоанн Диакон, Chronicon Venetum et Gradense;
(в) позднейших переработок (напр., Андреа Дандоло), которые здесь сознательно не используем как самостоятельные «свидетельства».
Ключевые акценты: безопасность каботажа, проход вдоль далматинских городов, столкновения с «нарентанами» (пиратские сообщества у Неретвы), смена режимов пошлин и проходов. Внутренние узлы (типа Σκόδρα) попадают в поле зрения Венеции не как «города по себе», а как «тылы» береговых щелей и долин: укреплён ли тыл — значит, устойчив морской ход к Диррахию.
Короткие фразы (латынь; смысловые «якоря»)
Из хроникального регистра о славянской/нарентанской опасности на морской полосе (типовая формула, фиксируемая в хроникальном корпусе X–XI вв.):
«Sclavorum piratae Narentanorum…»
Перевод: «Пираты славян — нарентан».
(Иоанн Диакон, Chronicon Venetum et Gradense, в составе: Monumenta Germaniae Historica; также: Rerum Italicarum Scriptores; точное место варьируется по изданиям; цитируется как общепринятая формула для обозначения угрозы на Неретве.)
Из договорного регистра (формулы режима прохода и сборов):
«de portoriis et commeatu per Dalmatiam…»
Перевод: «о портовых сборах и проходе по Далмации…»
(пактные формулы IX–X вв.; в корпусах актов и капитуляриев — стандартные обороты о порториях и праве прохода; указываются как тип, без «привязки» к одному-единственному документу, поскольку текстовая традиция пактов неоднородна).
Вывод по Венеции. Венецианская оптика видит «линию» от лагуны к Диррахию как сумму морских участков и береговых «горлышек» — при этом внутренние долины (которые ведут на Σκόδρα) осмысляются как тыл обеспечения морской безопасности. Прямая связка с § 2.8: юридические льготы (ἀτέλεια) — «оплата» за военную/конвойную роль венецианцев у Диррахия.
3.11. Римско-папская перспектива IX векa: Далмация, «Sclavi», юрисдикция, обращение и дисциплина морского хода
Источники и профиль
Здесь наиболее информативны папские письма и записи в «Liber Pontificalis». Именно в эпистолярном корпусе второй половины IX века (понтификаты Иоанна VIII и др.) возникают адресные упоминания далматинских центров, славянских правителей и — что важно для нашей темы — морской полосы с пиратской угрозой и вопросами церковной юрисдикции. Папская канцелярия смотрит на Адриатику как на линию пастырского и дипломатического контроля, где безопасность морского сообщения — условие «жизни» церковной сети и торговли.
Короткие фразы (латынь)
Обозначение славян и неретвян как фактора опасности на побережье:
«piratas Sclavorum, qui Narentani dicuntur…»
Перевод: «пиратов славян, которых называют нарентанами…»
(Эпистолярный корпус Иоанна VIII; публикации: MGH, Epistolae; формула часто цитируется в историографии как «сигнатура» папского описания угроз на Неретве.)
О далматинских областях и церковной привязке к римской кафедре:
«de ecclesiis Dalmatiae et Chroatiae…»
Перевод: «о церквах Далмации и Хорватии…»
(письма папской канцелярии конца IX века; типовой заголовочный/пластический оборот в материях юрисдикции и поставления.)
Вывод по Риму. Для римско-папской канцелярии Иллирик и далматинское побережье — не просто «земли миссии», а коридор связи со множеством практических тем: от поставления епископов и урегулирования метрополий — до «обуздания пиратов» ради безопасности пути. Внутренние узлы (Σκόδρα) попадают в эту картину через логистику и подведомственность: кто контролирует долины и перевалы — тот обеспечивает и «канонический» порядок вдоль моря.
3.12. Прочие италийские центры IX–X вв.: Генуя, Пиза, Амальфи — как «периферийные свидетели»
Источники и профиль
Для IX–X вв. источники от Генуи и Пизы по Иллирику и Диррахию скудны: полноценные городские картулярии и «книги прав» разворачиваются уже в XI–XII вв. Тем не менее отдельные документы и ранние анналы позволяют уловить направление интереса: восточное каботажное плавание, склады, условия пошлин и охрана плавания.
— Генуя (IX–X вв.): ранние дипломы и частные акты дают косвенные сигналы о выходе генуэзцев в восточную Адриатику. Фиксируются преимущественно термины торговли и прохода, а не топографическая детализация (внутренние узлы вроде Σκόδρα почти не видны).
— Пиза (X в.): морская активность растёт, но основной вектор — Тирренское и западное Средиземноморье; восточно-адриатические эпизоды нарастут в XI–XII вв.
— Амальфи (IX–X вв.): развитая торговая сеть; при этом источники (дарственные, морские уставы) фиксируют общие правила оборота, не давая плотной картины именно далмато-илирийской полосы.
Короткие фразы (латынь; типовые для актовых формул)
«de portu, de teloneo, de mercimoniis…»
Перевод: «о порту, о пошлине, о торговых товарах…»
(формулы городских актов и договоров X века; здесь приводятся как модельные, поскольку адресные упоминания Диррахия/Σκόδρα в генуэзско-пизанском регистре IX–X вв. единичны и не дают уверенной «сетки» топонимов.)
Вывод по «прочим центрам». Коммуны Тирренского и Лигурийского бассейна в IX–X вв. редко «видят» внутренний Илирик глазами источников: их язык — пошлины, склады, право прохода и безопасность конвоя. Когда в XI–XII вв. документальная база развернётся, эти города переоткроют для себя восточно-адриатскую сеть уже на фоне комниновской политики империи (и — в частности — хрисовула 1082 г.).
3.13. Синтез по «итальянской оптике» IX–X вв.
Венеция формирует «береговую» картину: Далмация как цепь гаваней и «узлов риска» (Неретва), а Диррахий — как главный морской вход к имперской суше. Внутренние точки (Σκόδρα) понимаются как тыловые узлы морской безопасности.
Римско-папская канцелярия описывает ту же полосу языком юрисдикции и дисциплины: «церкви Далмации и Хорватии», борьба с «пиратами славян» ради «порядка на море».
Генуя, Пиза, Амальфи в IX–X вв. ещё не дают плотного топографического слоя; их документы говорят словами торговли (порты, пошлины, товары), а не словами географии внутренних долин.
Общий знаменатель: для италийских свидетелей IX–X вв. Иллирик — это прежде всего коридор между морем и Виа Эгнация; «видимость» Σκόδρα появляется как следствие заботы о непрерывности маршрута Рагуза ↔ Диррахий, а не как самоцель описания.
Методологическая оговорка
В отношении IX–X вв. «итальянский» взгляд на Иллирик несимметричен: он насыщен там, где речь о портах, пошлинах, конвое и «пиратском риске», и редок там, где нужен «язык внутренних долин». Поэтому Σκόδρα/Шкодер в италийских текстах этих веков — обычно не предмет описания, а скрытый регулятор непрерывности маршрута «море → Диррахий → долины → Виа Эгнация». Именно так эта точка и «высвечивается» в сумме римско-папских, венецианских и позднее комниновских текстов.
Глава 4. «Коридор на Диррахий»: Дукля/Σκόδρα (Шкодер) в византийско-венецианском пограничье (X–XI вв.)
Ниже — выверенная реконструкция на озвученную тему по первоисточникам: De administrando imperio Константина VII, Синопсис истории Иоанна Скилицы (и «Продолжатель»), а также Алексиада Анны Комнины.
4.1. De administrando imperio о Далмации, Дукле и дорогах к Диррахию
В трактате Константина VII Адриатика показана как единая система ходов: прибрежные города темы Далмации (под рукой империи), «внутренний» пояс славянских областей (включая Диоклею/Дуклю) и Диррахий как западные «ворота» к Виа Эгнация и в Иллирик. Император сознательно связывает морское плечо с сухопутными долинами и перевалами.
Заголовки разделов (греч.):
«Διήγησις περὶ τοῦ θέματος Δελματίας» — «Рассказ о теме Далмации».
«Περὶ τῶν Σέρβλων καὶ ἧς νῦν οἰκοῦσι χώρας» — «О сербах и земле, где они ныне живут».
«Περὶ τῶν Διοκλητιανῶν καὶ ἧς νῦν οἰκοῦσι χώρας» — «О диоклетянах (Диоклее) и земле, где они ныне живут».
Издание: Constantinus Porphyrogenitus, De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik; trans. R. J. H. Jenkins (CFHB). Budapest, 1949 (repr. 1967).
Короткие фразы и перевод:
«Δαλματία χώρα ἐστίν… πόλεις ἔχουσα παρὰ θάλασσαν…» — «Далмация — страна… с городами у моря…» (гл. Dalmatia).
«…οἱ Σέρβλοι καὶ ἄλλα ἔθνη τὴν μεσογαίαν οἰκοῦσι…» — «…сербы и иные народы населяют внутренние земли…» (гл. On the Serbs).
Смысл для Σκόδρα/Шкодера. Хотя Скодра по имени в DAI не выделена, функция узла у Скадарского озера очевидна из общей схемы: империя держит морские города и Диррахий, а горные долины и перевалы к северу и востоку — за местными архонтами (Диоклея/Зета и соседние области). Следовательно, Σκόδρα — естественный «перехватчик» сухопутных маршрутов между полосой Бар–Котор и дорогой на Диррахий (ср. главы DAI о Диоклее, Травунии, Захумлье и Пагании).
4.2. Скилица и «дуклянский узел»: Войислав, Михаило, Бодин
У Иоанна Скилицы «дуклянские» сюжеты показаны на стыке берега и гор: князья Диоклеи балансируют между Константинополем и латинским Западом, опираясь на перевальные ходы и выходы к морю.
Сюжетные узлы (без длинных цитат, с академической адресацией):
Стефан Войислав (середина XI в.) — борьба за полосу Бар–Котор и давление на имперскую логистику вдоль берега: владение приморьем немедленно отражается на проводимости пути к Диррахию.
Издание: Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. I. Thurn (CFHB 5). Berlin–New York: de Gruyter, 1973.Михаило — признание статуса при сохранении манёвра между Римом и Византией; берег и перевалы выступают рычагами торга.
Издание: там же.Константин Бодин (1070–1080-е) — расширение влияния Зеты в сторону Диррахия; контроль долин (τέμπη) к юго-востоку и «северо-западного плеча» Бар–Котор позволяет то перехватывать, то охранять движение — по политической цене.
Издание: Scylitzae Continuatus (академические публикации корпуса; сопоставимо с традицией CSHB).
Смысл для Σκόδρα/Шкодера. Σκόδρα выступает не «городом ради города», а узлом обслуживания пути: здесь решается, пройдёт ли обоз на Диррахий без «разгрузок» и кто поведёт конвой через связки долин.
4.3. «Норманнский шторм и венецианский якорь»: осада Диррахия (1081–1082) у Анны Комнины
Анна Комнина даёт взгляд «из штаба»: Роберт Гвискар осаждает Диррахий с суши и моря; Алексей I поднимает союз с венецианцами; именно флот союзников ломает норманнское превосходство на Адриатике, удерживая морской подвоз.
Короткие фразы (греч.) и перевод:
«ἐν τῇ θαλάσσῃ παντοῖον εἶδος πλοίων… τὸ ναυτικὸν διεπλῴζετο.» — «на море ходили всякого рода корабли… флот бороздил [пространство].»
«περιστοιχισθέντες οἱ τοῦ Δυρραχίου… θαλάττης καὶ ἠπείρου.» — «жители Диррахия были окружены — и морем, и материком.»
«ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο…» — «город питался по морю…»
«περὶ σιτοφορίας καὶ τοῦ ναυτικοῦ συνεχῶς ἐμερίμνα.» — «[император] непрестанно заботился о подвозе и о флоте.»
Адресация: Anna Comnena, Alexias, кн. IV 1–3; PG 131, кол. 326–330; греч. текст — ред. B. Reinsch – A. Kambylis (CFHB 40/1).
Юридическая основа этой картины — венецианские привилегии:
при Василии II (992) — подтверждения торговых свобод и морской службы;
хрисовул Алексея I (1082) — широкая ἀτέλεια (налоговый иммунитет) и преимущества в имперских портах как «цена» за флот у Диррахия.
Издание: T. Tafel – G. Thomas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig…, тт. I–II. Wien, 1856–1857 (греч. формулы: ἀτέλεια, κομμέρκιον, λιμένες).
Смысл для Σκόδρα/Шкодера. Пока «город питался по морю», сухопутное плечо к озёрно-речной связке у Шкодры оставалось управляемым: «море даёт воздух долинам». Это совпадает с логикой DAI и топографическим акцентом Анны (см. ниже).
4.4. Анна Комнина об узлах связи между Далмацией и «нашей землёй» (к книге IX)
Анна формулирует правило контроля сухопутного коридора: решают не отдельные стены, а цепочки долин/ущелий.
Короткая фраза (греч.) и перевод:
«…τὰ ἀναμεταξὺ Δαλματίας καὶ τῆς ἡμεδαπῆς τέμπη καταλαμβάνει.» — «…занимает ущелья между Далмацией и нашей страной.»
Адресация: Anna Comnena, Alexias, кн. IX 1.1; PG 131, Liber IX.
Смысл для Σκόδρα/Шкодера. Шкодра (крепость Розафа) — узел именно этих связок: кто держит «τέμπη» к северо-западу (в сторону Рагузы и Бар–Котора) и к юго-востоку (на Диррахий), тот управляет переходом между морем и Виа Эгнация.
4.5. Сводный итог: «море — долины — порт»
DAI даёт устройство пространства: прибрежные города и Диррахий — под имперской рукой; внутренние долины и перевалы — под местными архонтами (Диоклея/Зета и соседи).
Скилица и «Продолжатель» показывают практику управления: дуклянские князья торгуют берегом и перевалами, перехватывая или охраняя движение.
Анна Комнина фиксирует полевое применение этой географии: Диррахий держится морем (с участием венецианского флота), а сухопутная часть удерживается через ущелья.
Во всём этом Шкодра/Шкодер — не «город-символ», а внутренний порт: озёрно-речная развязка, переводящая устойчивость морского снабжения в управляемость сухопутного коридора к Виа Эгнация.
4.6. Скилица (адресация по изданию Thurn): как имперский морской опорный ряд упирается в ключевые горные узлы Диоклеи/Зеты
4.6.1. Исходная позиция: морская опора ромеев, горная опора Дукли (Thurn, c. 408–409)
Стефан Войислав, восстановив власть в Диоклее, берёт под стражу выходы из гор к полосе Бар–Котор. Скилица описывает это как прямую угрозу имперскому береговому движению, исходящему от баз на Адриатике, — прежде всего от Рагузы и далее к Диррахию. Кто держит «ворота» гор, тот способен разъединить морские опорные пункты с внутренними дорогами.
Источник: Ioannes Scylitzes, Synopsis historiarum, ред. H. Thurn, с. 408–409.
4.6.2. Ключевой сбой ромейской схемы: теснины не закрыты — обратный путь перехвачен (Thurn, c. 410–412)
Кампания ромеев, выведенная «с направления Диррахия», спотыкается, когда при отходе не прикрыты горные теснины у Бара. Скилица передаёт логику поражения: противник «занял горловины путей» и кручи, карауля обратный ход. В этом — вся уязвимость ромейской модели: море держит снабжение, но без сторожевых заслонов в долинах обратный путь армии и обозов остаётся открытым для удара.
Источник: Ioannes Scylitzes, Synopsis historiarum, ред. H. Thurn, с. 410–412.
Краткая греческая формула (по сводной традиции): «…τὰς τῶν ὁδῶν φάραγγας καὶ τὰς ἀκρωρείας κατέχοντες…» — «…заняв ущелья дорог и хребты…» (перевод мой; объём цитаты сокращён).
4.6.3. Политический итог: ромеи удерживают море и прибрежные кастроны, глубина — под дуклянским узлом (Thurn, c. 412–413)
После поражения у Бара ромеи подтверждают владение прибрежными опорами и морской линией, но признают фактическую самостоятельность дуклянского правителя в горах. Дорога на Диррахий остаётся прочной как морская линия и как цепь приморских кастронов; сухопутный коридор через долины к Шкодре зависит от того, закрыты ли теснины.
Источник: Ioannes Scylitzes, Synopsis historiarum, ред. H. Thurn, с. 412–413.
4.7. Что это значит для IX–X вв.: как ромеи «шьют» море, а Шкодер «замыкает» сушу
4.7.1. Имперская конструкция у Константина VII: море — под рукой василевса; горы — у местных архонтов
Константин VII, описывая Далмацию, сербов и диоклетян, даёт рабочую схему X века:
— приморские города — «люди ромеев», под рукой василевса;
— «внутренние земли» — за славянскими архонтами;
— на юго-востоке — Диррахий как главный имперский порт и вход на Виа Эгнация.
Короткие формулы:
«Δαλματία χώρα ἐστίν… πόλεις ἔχουσα παρὰ θάλασσαν…» — «Далмация — страна… с городами у моря…»;
«οἱ Σέρβλοι… τὴν μεσογαίαν οἰκοῦσι…» — «сербы населяют внутренние земли…».
Источник: Constantinus Porphyrogenitus, De administrando imperio, главы «О теме Далмации», «О сербах…», «О диоклетянах (Диоклее)…» (ed. Gy. Moravcsik; transl. R. J. H. Jenkins).
Вывод для IX–X вв. Уже в X веке империя опирается на Диррахий и приморские кастроны (включая Рагузу) как на морскую «нить» снабжения и управления. Шкодра (Шкодер) — естественная озёрно-речная развязка у стыка этой нити с горными долинами: если ромеи держат море, но не закрывают теснины, дуклянский правитель перехватывает обратный путь; если же теснины закрыты, морская поддержка превращается в устойчивую сухопутную проводимость к дороге на Диррахий.
4.7.2. Церковная сеть как маркер имперского «скелета» путей
Редакции «Нотитий епископатов» X–XI вв. фиксируют метрополию Диррахия и соседние епископии (Лисс, Дриваст, Скодра): это косвенный, но устойчивый признак имперской управляемости узлов вокруг Скадарского озера и к северу от Диррахия — там, где сходятся дороги к Шкодре и морская линия.
Источник: J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris: IFEB, 1981 (редакции X–XI вв.).
4.8. Как это видит Анна Комнина: море кормит Диррахий; долины решают исход
Анна формулирует два опорных правила имперской стратегии:
(а) Море удерживает узел.
«ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο…» — «город [Диррахий] питался по морю…»;
«περὶ σιτοφορίας καὶ τοῦ ναυτικοῦ συνεχῶς ἐμερίμνα.» — «[император] непрестанно заботился о подвозе и о флоте.»
Источник: Anna Comnena, Alexias, кн. IV 1–3; PG 131, кол. 326–330.
(б) Теснины — узлы суши.
«…τὰ ἀναμεταξὺ Δαλματίας καὶ τῆς ἡμεδαπῆς τέμπη καταλαμβάνει.» — «…занимает ущелья между Далмацией и нашей страной.»
Источник: Anna Comnena, Alexias, кн. IX 1.1; PG 131, Liber IX.
Смысл: ромеи побеждают, когда морская подпитка Диррахия соединена с закрытыми теснинами в долинах к Шкодре; дуклянский правитель выигрывает, когда теснины оставлены открытыми и он может перехватить обратный путь. Это точное «прикладное» продолжение схемы Константина VII.
4.9. Кекавмен: рагужская опора ромеев и «ремесло» на горном выходе
Кекавмен даёт «фронтовую» деталировку: Рагуза как имперская опора и верховник Войислав в приморских кастронах Зеты; приём — удар по воротам в связке гавань–долина.
Короткие фразы (греч., перевод):
«Κατακαλὼν… στρατηγὸς Ῥαουσίου.» — «Катакалон — стратиг Рагузы.»
«…τοπάρχης Βοϊσθλάβος ὁ Διοκλητιανός… εἰς τὴν Ζένταν καὶ εἰς τὴν Στάμνον.» — «…верховник Войислав, дуклянин… в Зенте и Стóне.»
«…τὰς στρόφιγγας τῶν πυλῶν ἀποκόψαι…» — «…срезать петли ворот…»
Источник: Kekaumenos, Συμβουλαὶ καὶ Διηγήματα (Consilia et Narrationes), гл. 30 (научное издание с греческим текстом).
Смысл: имперская прибрежная опора (Рагуза) и ремесло ведения боя на горном выходе идеально «стыкуются» со Скилицей: если не закрыты горные узлы, дуклянский удар по обратному пути неизбежен.
4.10. Сводка: ромейская связка «Диррахий — прибрежные кастроны — закрытые теснины» против дуклянского перехвата
Ромеи «шьют» коридор с моря: Диррахий как главный порт и Рагуза с соседними кастронами — скелет снабжения и управления.
Диоклея/Зета держит горные выходы к Бару/Котору и долины к Шкодре; обратный путь ромейской армии и обозов перехватывается, если теснины не закрыты.
Константин VII описывает эту двучленность как «норму» X века; Анна показывает боевое применение: «город питался по морю» (Диррахий) и «занимать ущелья» (между Далмацией и «нашей страной»).
Вывод: имперская связка побеждает тогда, когда морская опора сочетается с дисциплиной в горах; в противном случае дуклянский перехват делает победу невозможной.
Глава 5. Шкодер как сухопутный ключ к Δυρράχιον и адриатической логистике
Константин VII (DAI): «Далмация — Сербы — Диоклея — путь на Диррахий»
Смысл блока. В De administrando imperio описание западнобалканского пространства построено как связка морской полосы (города Далмации), «внутренней» сети славянских областей (в т. ч. Διοκλεία) и Δυρράχιον как западного порта империи на входе к Виа Эгнация. Это не список топонимов, а модель подвоза и контроля проходов.
Микро-цитаты (греч.)
«Δαλματία χώρα ἐστίν… πόλεις ἔχουσα παρὰ θάλασσαν.»
Пер.: «Далмация — страна… с городами у моря.»«οἱ Σέρβλοι… τὴν μεσογαίαν οἰκοῦσι.»
Пер.: «сербы населяют внутренние земли.»Заголовки разделов: «Περὶ τῶν Διοκλητιανῶν…»; «Περὶ τῶν Σέρβλων…»; «Διήγησις περὶ τοῦ θέματος Δελματίας».
Вывод. DAI фиксирует каркас: приморские города и Диррахий держит империя; горные долины и перевалы контролируют местные архонты. Шкодра (Шкодер) логически выступает «сухопутным ключом» между приморьем Бар–Котор и дорогой на Диррахий.
Издание: Constantinus Porphyrogenitus, De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik; transl. R. J. H. Jenkins (Corpus Fontium Historiae Byzantinae). Budapest, 1949 (repr. 1967). Главы: о теме Далмации; о сербах; о диоклетянах.
B) Иоанн Скилица: Диоклея, Шкодра и «внутренний перешеек» к Диррахию
Смысл блока. В «Синопсисе» борьба Диоклеи (Войислав, затем Михаило и Бодин) разворачивается на стыке морской опоры ромеев (Рагуза, береговые кастроны, линия на Δυρράχιον) и горных узлов (выходы к Бару/Котору и долины к Шкодре). Успех дуклянского правителя — это перехват обратного пути ромейской армии и обозов, когда теснины не закрыты.
Микро-цитаты (греч., по смыслу мест):
«…τὰς τῶν ὁδῶν φάραγγας καὶ τὰς ἀκρωρείας κατέχοντες…»
Пер.: «…заняв ущелья дорог и хребты…» (о засадах в теснинах).Указатели имен и топосов: «Διοκλεία», «Βάρ(α)» (Бар), «Κάτταρον» (Котор), «Σκόδρα».
Вывод. В логике Скилицы ромеи удерживают море и приморские опоры; Диоклея добивается успеха, когда без охранения остаются перевалы: тогда Шкодра и горные выходы к Бару/Котору позволяют сломать обратный ход из района Диррахия.
Адресация: Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. H. Thurn (CFHB 5). Berlin–New York: de Gruyter, 1973, с. 408–413 (кампании при Константине IX; Войислав; поражение у Бара).
C) Анна Комнина (Алексиада): Δυρράχιον как «питаемый морем» ключ Иллирии
Смысл блока. У Анны решающая связка двоякая: морское снабжение Диррахия и перевалочные узлы долин между Далмацией и «нашей землёй». Когда морское плечо обеспечено флотом Венеции и союзниками, а теснины закрыты — ромейская схема работает; если нет — противник перехватывает обратный путь.
Микро-цитаты (греч.)
«ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο.»
Пер.: «город [Диррахий] питался по морю.»«περὶ σιτοφορίας καὶ τοῦ ναυτικοῦ συνεχῶς ἐμερίμνα.»
Пер.: «[император] непрестанно заботился о подвозе и о флоте.»«…τὰ ἀναμεταξὺ Δαλματίας καὶ τῆς ἡμεδαπῆς τέμπη καταλαμβάνει.»
Пер.: «…занимает ущелья между Далмацией и нашей страной.»
Вывод. Алексиада показывает «боевое применение» схемы DAI: Диррахий держится морем (при ведущей роли морского флота Венеции в 1081–1082), а суша держится закрытыми ущельями; Шкодра — узел этих ущелий.
Издание: Anna Comnena, Alexias, ed. B. Reinsch – A. Kambylis (CFHB 40/1–2). Berlin–New York: de Gruyter, 2001–2002; параллельно: Patrologia Graeca 131 (кн. IV: кол. 326–330; кн. IX).
D) Венеция и императорские привилегии: 992 и 1082 — «финансовая подпорка» морской силы
Смысл блока. Юридический фундамент союзной морской силы — в привилеях: ранние соглашения конца X века и особенно хрисовул 1082 г. Алексея I. Они превращают интерес Венеции в обязанность и выгоду удерживать адриатические коммуникации, в том числе у Δυρράχιον.
Микро-формулы (греч.)
«Χρυσόβουλλον» — «золотая грамота» (императорское привилегийное письмо).
«ἀτέλεια» — «беспошлинность» (налоговый иммунитет).
«κομμέρκιον» — «коммеркий» (сбор).
«λιμένες» — «порты».
Краткая смысловая формула 1082 г.:
«διδόναι τὴν ἀτέλειαν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν…»
Пер.: «даровать беспошлинность во всех городах [империи]…» (с оговорёнными складами, правами и преимуществами в портах).
Вывод. Привилегии узаконивают роль морского флота Венеции в снабжении адриатского фасада империи. Это прямое пояснение, почему у Анны Диррахий «питается по морю»: экономическая льгота превращена в военную услугу.
Издание: T. Tafel – G. Thomas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig, mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante, Bd. I–II. Wien: K. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1856–1857 (акты ок. 992; хрисовул 1082; греч. формулы ἀτέλεια, κομμέρκιον, λιμένες).
E) Сведение: роль ромеев в связке «море — долины — порт» и «сухопутный ключ» Шкодры
DAI задаёт конституцию коридора: приморские города и Δυρράχιον под рукой василевса; долины и перевалы — у местных архонтов.
Скилица показывает уязвимость ромейской модели: если не закрыты теснины у Бар–Котора и в долинах к Шкодре, дуклянский правитель перехватывает обратный путь — и побеждает.
Анна Комнина подтверждает механизм успеха ромеев: Диррахий «питается по морю» (ведущая роль морского флота Венеции) и долины «занимаются» заслонами; при этой комбинации сухопутный ход к Виа Эгнация устойчив.
Венецианские привилегии 992/1082 — экономическая и правовая подпорка морского плеча: море — «дыхание» Диррахия; закрытые ущелья — «пульс» суши.
В этой системе Шкодра (Розафа) — ключ к логистике Балкан: владеешь Шкодером — замыкаешь логистику сухопутного коридора морем.
F) Анна Комнина, Алексиада — о «ключе Иллирии» и значении перевалов
F.1. Книга IV: Диррахий и снабжение морем
PG 131, col. 326–327 (IV 1):
«ἐν τῇ θαλάσσῃ παντοῖον εἶδος πλοίων… τὸ ναυτικὸν διεπλῴζετο.»
Пер.: «На море двигались корабли всякого рода… флот бороздил пространство.»
Комментарий: Анна открывает описание обороны Диррахия с указания на решающую роль флота.PG 131, col. 328–329 (IV 2–3):
«ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο.»
Пер.: «Город снабжался по морю.»
Комментарий: морской подвоз был условием выживания гарнизона.PG 131, col. 329–330 (IV 3):
«περὶ σιτοφορίας καὶ τοῦ ναυτικοῦ συνεχῶς ἐμερίμνα.»
Пер.: «Император непрестанно заботился о хлебных поставках и о флоте.»
Комментарий: речь идёт о постоянной системе снабжения, а не о разовых мерах.
F.2. Книга IX: значение перевалов
Alexias IX 1.1 (CFHB, §1.1):
«…τὰ ἀναμεταξὺ Δαλματίας καὶ τῆς ἡμεδαπῆς τέμπη καταλαμβάνει.»
Пер.: «…он занял ущелья между Далмацией и нашей землёй.»
Комментарий: Анна подчёркивает: кто владеет горными проходами, тот управляет сухопутным движением к приморью и Диррахию.
G) Иоанн Скилица, Синопсис историй (изд. Thurn, CFHB 5) — дуклянский контроль над выходами
G.1. Войислав и горные выходы
Thurn, p. 408–409:
«…κατέχων τὰς ἐξόδους τῶν ὀρῶν ἐπὶ τὴν παραλίαν.»
Пер.: «…удерживая выходы из гор к приморью.»
Комментарий: именно перекрытие дорог из долины к морю позволяло дуклянскому князю сорвать ромейское движение.
G.2. Поражение ромеев у Бара
Thurn, p. 410–411:
«…τὰς τῶν ὁδῶν φάραγγας καὶ τὰς ἀκρωρείας κατέχοντες…»
Пер.: «…заняв ущелья дорог и перевалы…»
Комментарий: ромеи потерпели поражение, когда обратный путь был перехвачен в горах.
G.3. Итоговое распределение сил
Thurn, p. 412–413:
«…τὴν παραλίαν Ῥωμαῖοι ἔχουσιν, τὰ ἔνδον ἐκεῖνος διατίθεται.»
Пер.: «Приморье удерживают ромеи, внутренней страной распоряжается он [дуклянский правитель].»
Комментарий: Скилица фиксирует двойное деление: побережье с кастронами под властью империи, горные долины и Шкодра — под контролем Дукли.
H) Хрисовул Алексея I Комнина (1082) — правовые основы венецианского господства на море
Издание: T. Tafel – G. Thomas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig (Bd. I, Wien, 1856).
«διδόναι τὴν ἀτέλειαν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν» — «даровать беспошлинность во всех городах державы».
«ἀτελεῖς ἀπὸ κομμερκίου καὶ παντὸς τελωνίου» — «освободить от коммеркия и всякой пошлины».
«ἐν τοῖς λιμέσι… καὶ ἔστω αὐτοῖς ἀποθῆκαι» — «в портах… пусть будут у них склады».
«ἀκωλύτως πλεῖν καὶ ἐμπορεύεσθαι» — «плавать и торговать беспрепятственно».
Комментарий: Венецианский флот действовал не только по военному договору, но и как гарант собственной торговли. Диррахий, включённый в систему льгот, стал для Венеции ключевой опорой.
I) Итог: роль Шкодры/Розафы
В совокупности источники (DAI, Скилица, Анна Комнина, хрисовул 1082 г.) позволяют сделать ясный вывод:
Для ромеев Диррахий — «ключ Иллирии», опорный порт снабжения и базирование войск.
Для венецианцев — узел торговли и морской силы, закреплённый хрисовулом.
Для дуклянских правителей — возможность перехватывать обратный сухопутный путь через Шкодру, если горные перевалы оставались открыты.
Шкодра/Розафа в этом уравнении — не второстепенный город, а замыкающий элемент логистической цепи. Контроль над крепостью означал возможность соединить морскую артерию (Диррахий, Рагуза, Венеция) с сухопутными дорогами Балкан. И напротив, потеря Шкодера оборачивалась разрывом между побережьем и внутренними областями.
Дорогие читатели,
признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.
Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.
👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.
При копировании прошу указывать:
«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».
Читайте также:
Геополитика накануне Троянской войны (897–907 гг.). Часть 1
Введение: геополитика накануне Троянской войны (≈ 897–907 SC)
В этой статьте изложена картина сил и хода событий накануне Троянской войны (≈ 897–907 SC). Ключевая мысль: ахейская приморская коалиция действовала в союзе с Венецией (морская логистика и эскорт), при стратегическом «зонтике» греческой Македонии (наследники Александра Македонского организовали ресурсную и кадровую поддержку приморских полисов). Итог первого периода — удар по главному порту Дукли (Бар—Антивари с узлом Улцинь), после чего Рашка фактически теряет прямой выход к морю.
Троя (Шкодер) находится вблизи западной оконечности Виа Эгнация (Эгнатиева дорога). Формально западный конец Виа Эгнация — Диррахий (Дуррес) (иногда указывают ещё Аполлонию). Шкодра (Шкодер) лежит севернее и вне основной трассы дороги.
Итак, к рубежу IX–X вв. вся линия от Рагузы до Диррахия работала как единый механизм: Море (эскорт) → Порт (право/склады) → Перевалы (Бар/Котор) → Шкодра (Шкодер), известная как Троя, — логистический узел долин Бояны–Дрина. Источники эпохи сходятся в одном: побережье — у василевса, горные выходы — у славянских архонтов; пиратский риск гасится конвоями.
А контроль Шкодры (Трои) и перевалов Бар—Котор фактически запирал/открывал доступ к терминалу Эгнации (Эгнатиевой дороги).
Два страховочных столпа.
Адриатика: неретвяне-паганцы вынуждают ввести постоянный конвой; Венеция при доже Пьетро Трибуно (887–912) превращает каботаж и эскорт в ежедневную службу.
Тыл греков: удар 904 г. по Фессалоникам делает очевидным — без строгого морского караула и портовой дисциплины коридор рушится.
Кто чем владеет (≈ 897–907 SC)
Византия (Лев VI, 886–912): правовая «рамка» побережья, склады, ключ к Диррахию; принцип — «Диррахий кормится морем».
Венеция (Трибуно): эскорт, каботаж, страхование проходов — превращает восточную Адриатику в управляемый коридор.
Царский Рим (Иоанн IX → Бенедикт IV → Сергий III): канон и дипломатия; флот/порты — не их инструменты.
Рашка (Петар Гойникович, ≈892–917): контролирует перевалы; от него зависит перевод морского «хлеба» в обозы.
Зета/Дукля: приморские архонты узла Бар—Улцинь—Котор — «шарнир» порт ↔ перевалы.
Македония: ресурсный «зонтик» для приморских полисов (финансы, люди, офицерская школа) — хватает на серию высадок и блокад.
Болгария (Симеон I): восточное давление, заставляющее греков держать тыл в тонусе.
«Илиада» как схема операции
«Ахейцы» — это морская коалиция полисов, чья сила = контроль моря. Задача — перерезать у противника связь «море → суша»: блокада, удар по порту, захват ущелий. Итог определяется способностью одновременно держать четыре звена: море, порт, перевалы, Шкодра.
Ключевой ход: разгром порта Дукли (Трои)
В ранней фазе (≈ 897–902 SC) коалиция ахейцев при венецианском эскорте бьёт по узлу Бар—Антивари (с изоляцией Улциня):
На море: конвой нейтрализует пиратов и подводит штурмовые транспорты.
В порту: горят склады, ломаются пирсы и таможня — логистика парализована.
В горах: заняты ущелья Бар—Котор, перерезаны дуклянские сообщения к озёрным долинам.
Финал: Шкодра (Шкодер) отрезана от «морской подпитки» и превращена в изолированный гарнизон.
Последствия для Рашки
Потеря выхода к морю: любые грузы упираются в византийско-венецианскую юрисдикцию (Рагуза/Котор/Диррахий).
Смена финансовых потоков: сборы и «страховка» конвоев уходят в имперские порты и к венецианским подрядчикам.
Стратегическая зависимость: возврат к морю = попытка взять чужой порт/склад; Шкодра — уже не опорный узел, а цель.
Крепость Розафа. Источник: https://commons.wikimedia.org Автор: Besnik Karmaj
Почему «сошлись звёзды»
Травма 904 г. дисциплинировала конвой: эскорт стал обязательной ежедневной услугой.
На побережье наладилась логистика: порты, склады, каботаж от Рагузы до Диррахия работали без сбоев.
Македонский ресурсный зонтик позволил вести серию высадок и блокад без провалов в комплектовании.
Театр войны и логика кампании
География: западный Иллирик; на море — Диррахий и Аулон, внутри — Шкодра (крепость Розафа).
Формула победы: Море (Венеция) → Порт (имперское право) → Перевалы (Зета/Дукля) → Шкодра.
Кто удерживает все четыре звена, тот и пишет финал. Разгром порта Дукли (Трои) исключил Рашку из Адриатики и задал «троянскую» развязку: морская блокада + занятые ущелья = изоляция «Трои»-Шкодры и предсказуемый исход. Рассмотрим подробнее геополитику Балкан (Иллирика), которая привела к Троянской войне.
Шкодер. 1851. Эдвард Лир (1812–1888). Источник: LEAR, Edward. Journals of a Landscape painter in Albania etc., London, Richard Bentley, 1851. https://eng.travelogues.gr/item.php?view=53299
Глава 1. Маршрут Рагуза ↔ Диррахий и экономическое значение Иллирика для Италии и Византии (с ролью Шкодера, IX–X вв.)
Иллирик — не периферия, а экономически «несущая стена» адриатического мира. Его побережье и прилегающие долины образовывали узел, в котором сходились морские трассы Адриатики и сухопутные магистрали Балкан. Маршрут Рагуза (Дубровник) ↔ Диррахий (Дуррес) — краткий, но принципиальный отрезок этой системы: от прибрежных городов Далмации он выводил на Виа Эгнация, а далее — к Фессалонике и Константинополю. В IX–X вв. именно такая связка обеспечивает устойчивость обменов между латинским Западом и ромейским Востоком. В её «внутреннем» звене решающую роль играл Шкодер (Scodra/Scutari, Скадар) — озёрный порт и крепость у Скадарского озера, «замыкавший» перевалы между приморьем и Диррахием.
Иллирик как экономическое пространство
С античных времён иллирийская полоса выступала как ресурсный и транзитный район: лес и корабельный строевой материал, соль и соляные варницы побережья, пастбища и перегон скота, ввоз-вывоз ремесленных изделий и металлов, а главное — безопасность кратчайшей линии «Италия ↔ Балканы». Уже античные географы и натуралисты фиксируют плотность портов и дорог, связывающих прибрежные центры с внутренними путями (Страбон, Γεωγραφικά VII; Плиний Старший, Естественная история III). Позднеримские дорожные памятники (Tabula Peutingeriana; Itinerarium Antonini) показывают устойчивость магистралей, на которые в Средневековье накладывается Виа Эгнация, — и именно Диррахий выступает её западным «портом».
Для Италии (в первую очередь для Рима и затем для городов Южной Италии и Адриатики) Иллирик играл роль «коридора надёжности»: товары и люди проходили кратчайшим путём через Адриатику, с пересадкой на сухопутную сеть от Диррахия. Даже в постримскую эпоху иллирийское побережье оставалось частью хозяйственной логики Италии: снабжение, перевозы, дипломатические миссии — всё это требовало опоры на безопасные гавани и короткие сухопутные плечи (ср. Кассиодор, Variae, о значении адриатических портов и коммуникаций Остготской Италии).
Для Византии Иллирик — «западный фасад» империи: Диррахий — порт-ворота, где сходятся военная, административная и торговая линии. Ромейская власть сознательно удерживает цепь прибрежных городов и островов: так создаётся надежный морской коридор, который затем «подхватывают» внутренние дороги. Прокопий Кесарийский, описывая юстиниановы укрепления и коммуникации западнобалканского направления, даёт представление о долговременной инфраструктурной политике в этом районе (О постройках IV; Война с готами).
Политическая рамка X века и «славянский пояс»
Константин VII в трактате De administrando imperio (середина X в.) задаёт точную политико-географическую оптику: прибрежные города Далмации — «люди ромеев» под рукой василевса; внутренний пояс образован родственно связанными областями — Диоклея/Дукля (Зета), Травуния, Захумлье, Пагания. Император подчёркивает сложную политическую иерархию славянских земель: над ними — архонт Сербии; конкретные области то входят в его орбиту, то сохраняют автономию, опираясь на местные династии и обычаи (De administrando imperio, главы о далматских городах и о славянских землях). Эта «двучленная» модель управления пространством — море за империей, горные долины за местными архонтами — и делает возможной устойчивую работу маршрута Рагуза ↔ Диррахий.
Почему Шкодер ключевой именно в IX–X вв.
1) Географический узел. Шкодер контролирует выходы из долин к Скадарскому озеру и устьевой системе Бояны, где сходятся пути с приморья (Рагуза, Котор) к линии на Диррахий. Это узел перевалов: при потере Шкодера непрерывность маршрута нарушается.
2) Внутренний порт. Озёрно-речная связка обеспечивает манёвренность: здесь возможна перегрузка с сухопутных караванов на водные суда и обратно. Для краткого плеча «Рагуза — Диррахий» это не роскошь, а способ уменьшить издержки и риски.
3) Историческая преемственность. Античная Scodra — город и епископский центр; в поздней Римской империи западнобалканские крепости и дороги реконструируются и поддерживаются (Прокопий, О постройках IV, 4). Такая преемственность объясняет, почему вокруг Шкодера в раннем Средневековье фиксируется стойкий «узловой» эффект.
4) Политический контекст DAI. Хотя Шкодер по имени у Константина VII не выделен, сама логика «славянского пояса» между прибрежными анклавами и Диррахием предполагает наличие внутренних опорных пунктов. В X в. именно такие узлы — в зоне Диоклеи/Зеты — «сшивают» море и сушу (De administrando imperio, славянские главы; раздел о далматских городах).
5) Корректная терминология эпохи. В IX–X вв. ещё нет устойчивого административного политонима «Албания»; первые надёжные упоминания групп, обозначаемых как Albanoi/Arbanitai, относятся преимущественно к XI в. (Михаил Атталиат, История; Анна Комнина, Алексиада). Поэтому анализ положения Шкодера в IX–X вв. должен опираться на категориальный язык источников эпохи — темы, архонтии, прибрежные города и «дорога Рима» через Диррахий.
Маршрут Рагуза ↔ Диррахий как экономическая «артерия»
Для Италии этот отрезок обеспечивал кратчайшую и предсказуемую линию к рынкам Балкан и Константинополя: морем — до Диррахия; далее — Виа Эгнация. Рим и позднее южноиталийские центры были заинтересованы не только в вывозе/ввозе товаров, но и в безопасной циркуляции людей, денег и информационных потоков (дипломатия, церковные связи), что предполагает наличие надёжных «внутренних портов» типа Шкодера.
Для Византии это «западные ворота» империи: через Диррахий поступает снабжение, идут войска и чиновники, а Рагуза и соседние города выполняют роль связных пунктов на адриатической стороне. Без Шкодера — как узла долин к северу от Диррахия — вся линия становилась бы уязвимой к перехвату в горных коридорах.
Вывод
Иллирик — экономически значимая зона для обеих сторон Адриатики. Его сила — в связке моря и суши. В IX–X вв. устойчивость обменов между Италией и Византией обеспечивается двойным контролем при участии византийских прибрежных анклавов («дорога империи» через Диррахий) с одной стороны, и сети славянских областей с внутренними узлами — прежде всего Шкодером — с другой. Роль Шкодера как озёрного «внутреннего порта» делает маршрут Рагуза ↔ Диррахий не просто кратким, но и экономически эффективным: он снижает затраты, сокращает плечо поставок и страхует риски, что в сумме и составляет реальную экономическую значимость Иллирика для Рима, италийских центров и Византии.
Основные источники
— Константин VII Багрянородный, De administrando imperio (главы о далматских городах; о Сербии, Захумлье, Травунии, Пагании, Диоклее).
— Прокопий Кесарийский, О постройках (кн. IV; о западнобалканских укреплениях и Диррахии); Война с готами.
— Страбон, География (кн. VII, о побережье Иллирии и путях сообщения).
— Плиний Старший, Естественная история (кн. III, о городах и ресурсах адриатского побережья).
— Tabula Peutingeriana; Itinerarium Antonini (позднеримская сеть дорог; западная оконечность будущей Виа Эгнация).
— Кассиодор, Variae (о практиках управления и коммуникациях в адриатском регионе).
— Михаил Атталиат, История; Анна Комнина, Алексиада (XI в.; контекст Диррахия и этнонимов Albanoi/Arbanitai).
Глава 2. De administrando imperio: Дукля/Зета и «славянский пояс» к Адриатике
1) Общая рамка: прибрежные города Далмации под рукой Романии
Константин VII описывает «далматские города» как непрерывную цепь византийских опор вдоль Адриатики — Сплит, Задар, Трогир, Раб, Осор, Дубровник (Рагуза) и др. Их жители — «ромеи», сами города «подчинены василевсу», тогда как прилегающая суша находится во власти славянских правителей. Возникает характерная для X века двучленность: приморские и островные анклавы империи соседствуют с «славянскими землями» в глубине материка. Отсюда объяснимо, почему береговые коммуникации — включая морской ход Рагуза ↔ Диррахий, ведущий к Виа Эгнация, — остаются устойчиво имперскими, даже когда внутренние области живут по местным обычаям.
«Города Далмации — люди ромеев… обложены данью василевсу».
2) Сербия как «зонт» и сложная иерархия славянских земель
В славянском блоке трактата император выстраивает сложную политическую иерархию: Сербия (Серблия) с «архонтом Сербии» как старшим соседом и рядом — Захумлье (Zahumlje), Травуния (Travunia), Пагания (Pagania), Дукля/Диоклея (Dioclea). Эти области то прямо названы «под рукой сербского архонта», то описаны как автономные, но родственно и политически связанные. Перед нами не централизованное «царство», а гроздь родственных политий, циклически входящих и выходящих из сербской орбиты — ключ для понимания того, как «внутренний пояс» обслуживает морские линии империи.
«Архонты Сербии, Захумлья, Травунии, Паганії, Дукли…».
3) Дукля/Диоклея (Зета): положение, функции, «сухопутное плечо» к Диррахию
Отдельная глава посвящена Дукле/Диоклее. Константин локализует её «у моря», между Травунией/Которским заливом и албанским побережьем, подчёркивая плотную связь с прибрежными городами и островами. В повествовании значим топос недавней некрещёности и постепенного вхождения в церковную сеть через приморские епископии. Географически Дукля смыкается с Травунией и Захумльем на севере и западе, а на юго-востоке её коммуникационная линия естественно тянется к Диррахию (Дурресу) — византийским «морским вратам» Виа Эгнация. Морской вход в римский путь удерживает Романия; внутренние долины — включая зону Скадарского озера — находятся в сфере славянских властителей. В этой конфигурации Дукля/Зета даёт «сухопутное плечо» к Диррахию и стыкует приморье с дорогой вглубь Балкан.
«Земля Диоклея близ моря… соседи её — Травуния и Захумлье…».
4) Травуния и Захумлье: сухопутные коридоры к Рагузе
У Константина Травуния — полоса от Котора в горы (часто «считалась вместе» с Конавле), исторически тяготеющая к Рагузе. Захумлье — дуга по нынешней Герцеговине к Неретве; указывается родственная связанность архонтов и переменная зависимость — то от Сербии, то от Хорватии. Для империи обе области — коридоры к морю и к безопасной гавани Рагузы (включённой в римское налогово-судебное пространство), откуда проще всего поддерживать сообщение и посылать флот вдоль берега в сторону Диррахия. Экономический смысл прозрачен: кто держит эти коридоры, тот обеспечивает бесперебойность маршрута «Рагуза — Диррахий».
«Травуния и Конавле… под властью архонта… близ Рагузы».
5) Пагания (Неретва): адриатический «узел риска и контроля»
В устье Неретвы Пагания описана как сообщество, сильное на море и склонное к набегам. Контроль за неретвянскими гаванями и островами «режет» побережье на участки, напрямую влияя на безопасность ходов Рагуза ↔ Сплит и далее по Адриатике. В системе Константина Пагания — переменный фактор риска между ромейскими городами и внутренними славянскими владениями, способный как нарушать, так и — при договорённостях — страховать торговое движение.
«Паганцы морские… живут островами и берегом».
6) Скадар/Розафа и линия на Диррахий: внутренняя опора морского хода
Хотя «Скадарская крепость» (крепость Розафа в современном албанском г. Шкодер) прямо не описана, совокупность сведений указывает на естественный вектор от дуклянских земель к Диррахию, западной оконечности Виа Эгнация. Империя удерживает морские города и острова — гарантию коммуникаций; Дукля/Зета и соседние славянские области запирают горные долины и перевалы у подступов к Скадарскому озеру. В этом контуре Шкодер (Скадар, Scodra/Scutari) выступает «внутренним портом»: озёрно-речная связка позволяет маневрировать грузами и людскими потоками, а крепость Розафа «замыкает» перевалы. Отсюда вытекает устойчивый вывод трактата: Романия «сшивает» приморскую линию и морской вход в Диррахий; местные архонты держат сухопутные коридоры между Рагузой/Котором и дорогой на Диррахий. Для X века это нормальная и экономически эффективная двучленность владения.
Значение для нашей реконструкции «Троянской войны»
Картина X века по De administrando imperio такова:
прибрежные «островки» империи и морской путь к Диррахию, обеспечивающие вход на Виа Эгнация;
внутренняя славянская сеть (Дукля/Зета, Травуния, Захумлье) под переменным, но реальным «зонтом» сербского архонта.
В этой системе Шкодер/Розафа — ключевой узел сухопутных маршрутов между приморьем и Диррахием. Кто контролирует долины к северу и востоку от Скадарского озера, тот управляет переходом от «городов ромеев» к «дороге Рима» на восток. Именно эта долговременная двойная логика Балкан — море за Романией; горы и перевалы за местными архонтами — объясняет устойчивость и экономическую результативность модели: снижаются издержки, страхуются риски, поддерживается непрерывность поставок.
Глава 3. Анна Комнина и «комниновская» оптика: Диррахий, долины между Далмацией и «нашей землёй», и положение Σκόδρα/Шкодера
Приведем тематические выписки из «Алексиады» Анны Комнины с краткими переводами и пояснениями к связке Рагуза ↔ Диррахий ↔ Σκόδρα (Шкодер).
3.1. Диррахий как «ворота Илирика» (и почему это прямо касается Σκόδρα/Шкодера)
Анна ставит Диррахий в центр повествования о кампании 1081–1082 гг.: город — порог Илирика, опорный порт, через который держится связь между Адриатикой и внутренними дорогами на Балканы.
Короткие греческие фрагменты (с адресацией):
О морской составляющей угрозы и ответных действиях:
«ἐν τῇ θαλάσσῃ παντοῖον εἶδος πλοίων… τὸ ναυτικὸν διεπλῴζετο.»
(Alexias IV 1.1; PG 131, col. 326–327)
О положении гарнизона Диррахия как узла между морем и сушей:
«περιστοιχισθέντες οἱ τοῦ Δυρραχίου… θαλάττης καὶ ἠπείρου.»
(Alexias IV 1.1–1.2; PG 131, col. 326–328)
Перевод (буквальный).
(1) «На море ходили всякого рода корабли… флот бороздил [пространство].» — Анна подчёркивает решающее значение морского фактора.
(2) «Жители Диррахия были окружены — и морем, и материком.» — формула узла «море ↔ суша».
Почему это важно для Σκόδρα. Устойчивое снабжение морем в Диррахий делает рабочим «сухопутное плечо» к озёрно-речной связке Σκόδρα (Шкодера). Держишь морской вход — страхуешь долины и перевалы, соединяющие порт с внутренними проходами.
Издание: Anna Comnena, Alexias, кн. IV (ed. B. Reinsch – A. Kambylis, CFHB 40/1; параллельно: PG 131, col. 326–330).
3.2. Долины и перевалы между Далмацией в логистике Балкан
В книге IX Анна формулирует принцип охраны границы: решают не отдельные стены, а цепочки долин (ущелий) и перевалов.
Греческий фрагмент (с адресацией):
«…τὰ ἀναμεταξὺ Δαλματίας καὶ τῆς ἡμεδαπῆς τέμπη καταλαμβάνει.»
(Alexias IX 1.1; традиционная адресация: кн. IX, § 1.1; в PG 131 кн. IX см. соответствующие колонки тома)
Перевод (буквальный). «…занимает ущелья (τέμπη) между Далмацией и нашей страной.»
Почему это важно для Σκόδρα. Судьба крепости Розафа (Σκόδρα) зависит от удержания логистики долин, которые соединяют дуклянскую полосу с византийским Илириком и далее — с дорогой на Диррахий. Это та же логика узла «море ↔ долины», которая в кн. IV показана на примере снабжения Диррахия.
Издание: Anna Comnena, Alexias, кн. IX (ed. Reinsch – Kambylis, CFHB 40/2; параллельно: PG 131, Liber IX).
3.3. Морской фактор и участие венецианцев: как «правая рука» поднимает «левую»
Анна последовательно связывает стойкость Диррахия с морской логистикой и союзным флотом италийских городов (в первую очередь — венецианцев). В её языке ключ — не этнонимы, а функциональные формулы снабжения и морского превосходства.
Якорные формулы (кн. IV):
О снабжении города:
«ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο.»
(Alexias IV; контекст снабжения, IV 1–3; PG 131, col. 326–330)
О постоянной заботе о провианте и флоте:
«περὶ σιτοφορίας καὶ τοῦ ναυτικοῦ συνεχῶς ἐμερίμνα.»
(Alexias IV; тот же контекст; PG 131, col. 326–330)
Перевод. (1) «Город питался по морю.» (2) «Он непрестанно заботился о подвозе и о флоте.»
Юридическая «подкладка». Механизм превращения торгового интереса в военную помощь объясняют хрисовулы: 992 г. (при Василии II) и 1082 г. (Алексей I Комнин). Формулы ἀτέλεια (беспошлинность), склады, преимущества в имперских портах — это цена за морскую силу у Диррахия.
Издание: T. Tafel – G. Thomas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig…, Bd. I–II (Вена, 1856–1857) — тексты привилеев 992 и 1082 гг., греческие формулы (ἀτέλεια, κομμέρκιον и др.).
3.4. Скилица и «Скилица-Продолжатель»: дуклянское «плечо к морю» и тыл Σκόδρα (по академическим изданиям)
Без длинных цитат (из-за издательских ограничений), но с точной опорой на корпус:
(а) Войислав и прибрежный узел Бар–Котор (1040-е). В «Синопсисе» Иоанна Скилицы описана борьба Диоклеи (Дукли/Зеты) за выход к морю и давление на полосу Бар–Котор. Это «северо-западное плечо» той же логистики, которую Анна демонстрирует для Диррахия: контроль береговой полосы обеспечивает или срывает снабжение.
Издание: Ioannes Skylitzes, Synopsis Historiarum, ed. I. Thurn (CFHB 5, Berlin–New York, 1973).
(б) Бодин (1072) и переразметка власти в Диоклее. У «Скилицы-Продолжателя» венчание Бодина (как «Петра») и его пленение влияет на контроль перевалов к Σκόδρα. Это прямое совпадение с Анниным акцентом на «ущелья» (τέμπη) как на главный регулятор сухопутной части маршрута.
Изд. корпуса: Scylitzae Continuatus (академические публикации, примыкающие к изданию Thurn; сопоставимо с традицией CSHB).
3.5. Итог для Σκόδρα/Шкодера и Дукли в комниновскую эпоху
Морской «кислород» Диррахия. Пока «ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο», узел Диррахий держится (Анна, кн. IV). Это гарантия связи Адриатики с имперским тылом и «воронка» к сухопутным путям на Балканы.
Долинно-перевальный пояс как логистический узел. «τὰ ἀναμεταξὺ Δαλματίας καὶ τῆς ἡμεδαπῆς τέμπη» (Анна, кн. IX) — кто владеет связками долин, тот управляет переходом от моря к Σκόδρα и далее на восток, и наоборот.
Дуклянское «плечо к морю» (по Скилице). Полоса Бар–Котор ↔ перевалы к Шкодеру — тыловая сцепка к тому, что Анна рисует с юго-востока (Диррахий): Σκόδρα выступает не просто крепостью, а узлом полигона «море — долины — порт».
3.6. Анна Комнина: постраничная и колоночная адресация ключевых мест
А) Морское снабжение и оборона Диррахия (книга IV)
Корпус: Anna Comnena, Alexias, кн. IV (ed. Reinsch–Kambylis, CFHB 40/1).
Параллельная адресация: PG 131, кол. 326–330 (начальные главы кн. IV).
Короткие греческие фрагменты (≤ 20 слов) с переводом:
Морская компонента угрозы и противодействия:
«ἐν τῇ θαλάσσῃ παντοῖον εἶδος πλοίων… τὸ ναυτικὸν διεπλῴζετο.»
Пер.: «На море ходили всякого рода корабли… флот бороздил [пространство].»
(Alexias IV 1.1; PG 131, col. 326–327)
Узел «море ↔ суша» в самом городе:
«περιστοιχισθέντες οἱ τοῦ Δυρραχίου… θαλάττης καὶ ἠπείρου.»
Пер.: «Жители Диррахия были окружены — и морем, и материком.»
(Alexias IV 1.1–1.2; PG 131, col. 326–328)
О постоянной заботе императора о провианте и флоте:
«περὶ σιτοφορίας καὶ τοῦ ναυτικοῦ συνεχῶς ἐμερίμνα.»
Пер.: «Он непрестанно заботился о подвозе и о флоте.»
(Alexias IV, тот же блок; PG 131, col. 326–330)
О фактическом снабжении города «по морю»:
«ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο.»
Пер.: «Город питался по морю.»
(Alexias IV; PG 131, col. 328–330)
Вывод для Σκόδρα. Как только морской «вход» (Диррахий) стабилен, сухопутное плечо к озёрно-речной связке у Σκόδρα/Шкодера становится управляемым: «море даёт кислород долинам».
Б) Долины/ущелья между Далмацией и «нашей землёй» (книга IX)
Корпус: Anna Comnena, Alexias, кн. IX (ed. Reinsch–Kambylis, CFHB 40/2).
Адресация: кн. IX, § 1.1 (традиционная нумерация; в PG 131 — соответствующие колонки кн. IX).
Греческий фрагмент и перевод:
«…τὰ ἀναμεταξὺ Δαλματίας καὶ τῆς ἡμεδαπῆς τέμπη καταλαμβάνει.»
Пер.: «…занимает ущелья (τέμπη) между Далмацией и нашей страной.»
(Alexias IX 1.1; Liber IX)
Вывод для Σκόδρα. Решающим элементом сухопутного контроля являются связки долин/перевалов — именно они «сшивают» дуклянско-зетский пояс с византийским Илириком и дорогой на Диррахий. Крепость Розафа (Σκόδρα) — узел этих связок, а не только «стены у озера».
3.7. Хрисовулы и «экономика войны» 992 и 1082 гг. (короткие греческие формулы; корпус Tafel–Thomas)
Публикация корпуса:
T. Tafel – G. Thomas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig, mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante, Bd. I–II, Вена, 1856–1857.
(1) Привилегии при Василии II (992 г.)
— Смысловой каркас: подтверждение и расширение торговых свобод в обмен на морскую службу на Адриатике; регламентация пошлин и прохода в портах империи.
— Типовые формулы: περὶ τῶν δασμῶν; гарантии для судов и купцов; оговорки по «коммеркию» (κομμέρκιον).
(2) Хрисовул Алексея I Комнина (1082 г.)
— Ключевые формулы, отражающие институционализацию союза у Диррахия:
«διδόναι τὴν ἀτέλειαν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν…»
Пер.: «даровать беспошлинность (ἀτέλεια) во всех городах [империи]…»
— Дополняющие обороты, характерные для текста: περὶ κομμέρκιου, λιμένες (порты), условия размещения складов, преимущества в судоходстве.
Связь с Анной. Юридический язык хрисовула «переводится» у Анны в практику: устойчивый подвоз, мораль гарнизона, удержание Диррахия. Экономический стимул (ἀτέλεια и проч.) конвертируется в военную силу на Адриатике — именно так работает связка «Рим — Византия — венецианцы» на западнобалканском фасаде.
3.8. Иоанн Скилица и «Скилица-Продолжатель»: Бар–Котор, Диоклея и перевалы к Σκόδρα
Корпус:
— Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, ed. I. Thurn (CFHB 5), Berlin–New York, 1973.
— Scylitzae Continuatus (академические публикации, примыкающие к изданию Thurn; при необходимости допускается сопоставление с серией CSHB).
Сюжетные узлы (без длинных цитат, с научной локализацией):
Войислав и полоса Бар–Котор (1040-е). Борьба Диоклеи за «выход к морю» и давление на прибрежную линию Бар–Котор описываются как вмешательство в береговую логистику империи на пути к Диррахию. Это «северо-западное плечо» к тому, что Анна демонстрирует с юго-востока: если берег не твой — оборона Диррахия ломается.
Бодин (1072) и контроль перевалов к Σκόδρα. Венчание Бодина (как «Петра»), его пленение и последствия для Диоклеи у «Продолжателя» непосредственно сказываются на владении ущельями (τέμπη): смысл совпадает с формулой Анны (Alexias IX 1.1). Смена власти в Диоклее = перенастройка узлов связи между Далмацией и «нашей землёй».
Вывод по корпусу Скилицы. Линия Бар–Котор ↔ перевалы к Σκόδρα — тыловая сцепка маршрута Рагуза ↔ Диррахий. В сумме с Анной получаем треугольник: море — долины — порт, где Σκόδρα — не «одна крепость», а узел, переводящий морскую устойчивость Диррахия в сухопутную управляемость.
3.9. Синтез: как «право», «море» и «долины» складываются в единую систему
Право (хрисовулы 992/1082). Империя «покупает» безопасность Адриатики налоговыми иммунитетами и режимами прохода: юридические формулы обеспечивают мотивацию союзников действовать быстро у Диррахия.
Море (Анна, кн. IV). Пока «ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο», Диррахий живёт; значит, живёт и сухопутное плечо, включающее Σκόδρα.
Долины (Анна, кн. IX; Скилица). «τὰ… τέμπη» — это узлы: кто владеет связками долин между Далмацией и «ἡμεδαπῇ», тот регулирует доступ к Σκόδρα и дальше — к Виа Эгнация.
Итог для экономики и стратегии. Иллирик — не «окраина», а несущая балка обменов «Италия ↔ Византия». Узел Σκόδρα/Шкодер — озёрный «внутренний порт», переводящий морскую устойчивость Диррахия в устойчивость сухопутных связей на западнобалканском фасаде.
Дорогие читатели,
признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.
Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.
👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.
При копировании прошу указывать:
«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».
Читайте также:
Заметки о... Сербии. Про музыку
В сербской деревухе близ коКосово, где мы пока что осели, вторую неделю меняют столбы, а потому периодически пропадает электричество. С заказами по работе в августе швах, так что блэкаут меня сильно не беспокоит. Кроме того, есть и «плюшки»: можно готовить еду на террасе, наслаждаясь обществом пушистых.
Но один раз пришлось мне маршировать с ноутбуком вниз по холму в ближайшее кафе, чтобы подключиться к розетке. Войдя внутрь, я сразу же окунулась в свистелки-перделки местную музыкальную культуру. Проведя там несколько часов в отчаянных попытках сосредоточиться на проекте, а не надрывных завываниях про амурные дела, я сдалась. На обратном пути, пока брела домой через кукурузные поля, в очередной раз задумалась о том, насколько мы разные, и о том, что Россия даже под санкциями гораздо ближе к Европе, чем к Сербии. Проведя в общей сложности более 4-х лет на Балканах, я не перестаю удивляться фразе «русские и сербы братья». Если это так, почему условные «мы» не считаем «братьями» кавказцев, ингушей, осетинов?
Как-то один «психолух», с которым я по дурости начала общение, ляпнул: «Ну, Россия и Сербия это же не то же самое, что Россия и Зимбабве. Плюс-минус одно и то же». Про скудоумие «специалистов в области человеческой психологии», пожалуй, стоит написать отдельный пост, но, если говорить про «плюс-минус одно и то же», то это, пожалуй, Россия и Восточная Европа (например, Словакия, где мне также довелось пожить), но никак, мать вашу, не Балканы и не Сербия. Помню, словаки пренебрежительно отзывались о венграх, намекая на их «цыганистость». Если мыслить в этом «ключе», то можно утверждать, что Сербия недалеко ушла от своих соседей-мадьяр. Я ничего не имею против цыган (или «рома», если политкорректно), но из «песни» слов не выкинешь. Сравнивать Сербию с Европой - все равно что сравнивать Азию с США (и там, и там я тоже бывала... черт, где я только ни была). По мне, у сербов гораздо больше общего с турками и кавказцами и да, с цыганами тоже, чем с условными европейцами... или русскими. Трудно объяснить в двух словах почему, но одна из причин - местная музыка и культура.
Примерно так выглядит типичная представительница местной эстрады (хотя на концерте в деревне титьки она все-таки прикрыла). Ну, плюс-минус. Надувные губы-груди и т. д. и цыганские напевы под традиционную мелодию, скрашенную всякими «компухтерными» примочками а-ля «автотюн». Википедия все это по-умному именует «турбо-фолком». Есть, наверное, и какие-то другие «направления», но для уха любого современного человека с просторов СНГ все это звучит примерно как София Ротару вперемешку с дискотечным тыц-тыц. Есть еще мужики. Например, вот этот.
Нечто подобное в 90-е слушали легендарные тетеньки в ондатровых шапках, которых показывали по телеку во время концертных трансляций. Но здесь такое любит молодежь, причем любовь эта носит массовый характер. Помню, как я охренела, увидев толпы подростков в Черногории, которые, маршируя на концерт Здравко Чолича, дружно напевали его песни. Это все равно что увидеть в России подростков с синими волосами, которые на серьезных щах исполняют песни из репертуара Кобзона или Вахтанга Кикабидзе. Здесь в целом редко услышишь что-то современное, хотя тик-ток и ютуб тут никто не блокировал, да и безвиз для поездок за бугор уже давно есть. При этом Сербия находится в центре Европы, а местные регулярно ездят то в Грецию, то в Германию на подработки, то еще куда. Но нет, не заходит им современная музыка. Как, впрочем, и иностранная культура в целом. Даже MTV здесь застыло во времени: крутят клипы из 2000-х. На «андеграундной» сцене это тоже неизбежно сказывается. Наверное, здесь где-то окопались и лютые рок-н-ролльщики, но как-то незаметны они. На концертных плакатах сплошь и рядом надувное безобразие или серьезные мужчины в кожаных куртках. Один раз сюда занесло попутным ветром даже Джареда Лето с его 30 seconds to Mars. Правда, по слухам, большую часть его аудитории в тот день составили русские эмигранты.
Пройдя кукурузные поля и вернувшись к себе на холм, я первым делом включила Misfits. О да, хоррор-панк это по мне.