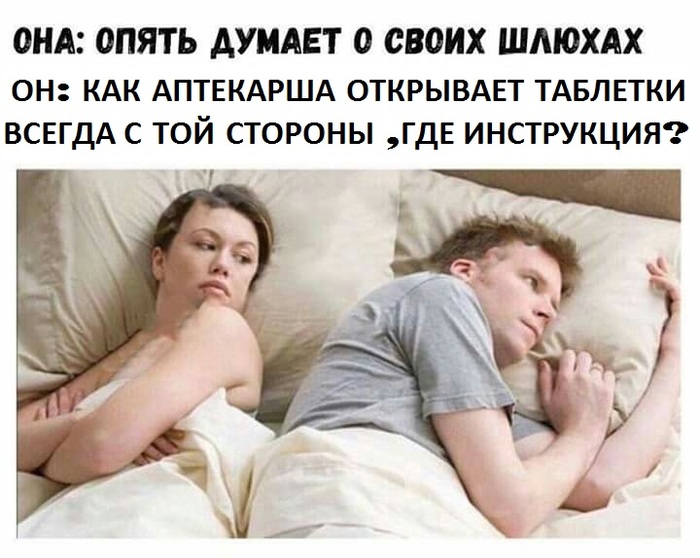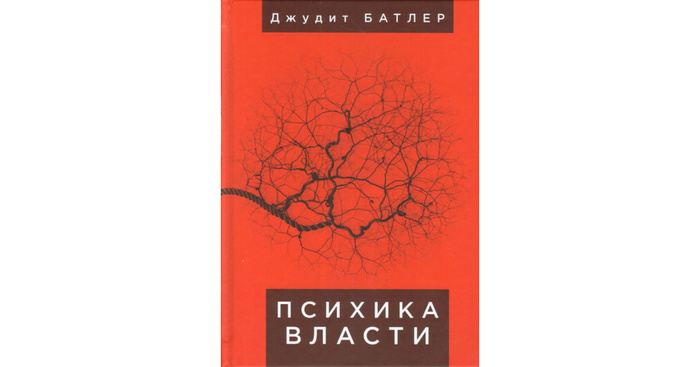Виртуозный гуру слонов Карлсен - Грищук Шахматы
Друзья! Представляем Вашему вниманию прекрасную партию, сыгранную чемпионом мира Магнусом Карлсеном против россиянина Александра Грищука. Виртуозное мастерство чемпиона мира позволило ему создать замечательный пример для многих будущих книг. Именно по таким партиям надо изучать шахматы!
Как мятежный поляк стал отцом кавалерии США, и почему американцы при жизни терпеть его не могли
В восемнадцатом веке самым страшным видом войск была кавалерия. Вооружённые саблями и пистолетами всадники составляли серьёзную часть европейских армий. Но в будущем государстве США, а тогда ещё мятежной британской колонии, кавалерии не было. До тех пор, пока её не создал вошедший в легенды иммигрант — поляк Казимир Пулавский.
Семья бунтовщиков
У польского дворянства была особенность. Шляхта не считала необходимым иметь отдельный герб для каждой семьи. Польские дворяне использовали определённый набор гербов, каждый из которых принадлежал нескольким десяткам семей. Семейство Пулавских относилось к гербу Слеповрон и жило в городе Варка на востоке Польши.
Герб Слеповрон соотносят с венгерским королём Матяшом по прозвищу Корвин (Ворон). Венгерская и польская история всегда были тесно переплетены.
Отцом Казимира был сам варецкий староста, видный деятель политики в восточной Польше, Юзеф Пулавский. В то неспокойное время Польша в очередной раз восстала против российской власти, которую представлял король Станислав Понятовский. Конфедераты требовали отменить закон, который ставил православных наравне с католиками: считали, что это католиков оскорбляет. Требования эти вылились в борьбу против России вообще, и в ней-то отметился пан Пулавский-старший.
В 1768 году город, который он защищал, был взят русскими войсками. Часть соратников Юзефа Пулавского обвинили его во всех неудачах и выдали в город Хотин османам. В турецкой тюрьме Пулавский и умер. После его смерти старостой в Варке стал двадцатичетырёхлетний Казимир. На военной службе он состоял к тому времени уже пять лет.
И Казимир, и его братья разделяли идеи отца и отличались той же непримиримостью. Они продолжили борьбу с Понятовским и императрицей Екатериной. Казимиру довелось столкнуться с отрядом самого Александра Суворова, и в сражении с ним он выжил чудом: его закрыл от пули старший брат, Франциск. Сердце Пулавского гибель брата ожесточила ещё больше. Воспитание дочери, оставшейся от брата, он взял на себя.
Картина Корнелия Щегла, изображащая молодого Пулавского во время захвата русскими города Бара.
Из столкновения с отрядом Суворова Казимир так ловко вывел своих кавалеристов, что восхитил русского военачальника. Герой Российской Империи велел передать герою Польши свою любимую драгоценную табакерку. О молодом поляке Суворов вспоминал после с неизменным уважением.
Во время обороны от русских войск Ченстоховы молодой бунтарь возглавлял войска и сопротивлялся так отчаянно — а руководил так талантливо — что прославился на всю Европу. Но самому Казимиру было ясно, что долго сопротивляться Польша не сможет, и нужно принять какие-то решительные меры, которые резко повернут ход событий. В двадцать семь лет Пулавский попытался организовать похищение Понятовского. Помогло бы это конфедератам, если бы дело выгорело? Кто знает. Похищение провалилось, конфедераты были разбиты, и Казимир бежал из страны.
Новая родина, новый бунт
Из Польши в Турцию, из Турции во Францию. В Париже прибытие Пулавского наделало шума. Несмотря на молодость, полководец-бунтарь был живой легендой. Его манёвры и приказы обсуждали со всех сторон те, кто разбирался в военном деле, а те, кто не разбирался, просто восхищались стойкостью и отвагой — а женщины и своеобразной диковатой красотой — гордого поляка. А история о брате, отдавшем жизнь за брата, трогала каждое сердце.
С Пулавским немедленно завели знакомство два американца: Сайлас Дин и Бенджамен Франклин. Они уговорила его участвовать в войне за независимость Америки — ведь один мятежник поймёт другого. Фактически, они завербовали поляка. Дин ссудил его деньгами, Франклин дал сопроводительное письмо, и в 1777 году Казимир ступил на палубу корабля, пересекающего океан. В тот момент ему едва исполнилось тридцать два года. С ним поехала на новую родину и племянница.
Пулавский во главе войска польских конфедератов. Картина Юлиуша Коссака.
В Америке знали и верховую езду, и порох, но кавалерии как рода войск не существовало: не было знатоков тактики боя верхом. Офицеры Вашингтона встретили Пулавского с восторгом. Его опыт был как нельзя кстати. Война за независимость шла полным ходом. Вашингтон назначил Пулавского бригадным генералом, а подчинённую поляку конницу скоро все звали «Легионом Пулавского».
Однако вскоре восторги поустыли. Герой польских повстанцев оказался высокомерным, непризнающим авторитетов и чинов. Он прилюдно, при подчинённых, спорил с другими генералами на ломаном английском и повиновался беспрекословно одному только Вашингтону. Невозможность как следует объяснить задачу из-за плохого знания языка раз за разом снижала эффективность каждого манёвра и каждой атаки, и недовольство Пулавским всё возрастало.
Не зная, куда направить энергичного, нужного для обучения грядущих полководцев кавалерийских войн, но такого строптивого и антихаризматичного генерала, Конгресс кидал его с одного участка фронта на другой. В какой-то момент ему поручили даже оскорбительную для его уровня компетенции задачу — защищать долину реки Делавэр от индейцев. «Воюю с одними медведями», жаловался Пулавский в письме Конгрессу. Он то грозился отказаться от должности, то вовсе вернуться в Европу.
Все самые знаменитые портреты Казимира Пулавского написаны после его смерти, так что, возможно, не очень хорошо передают его внешность.
9 октября 1779 года Пулавский принял решение атаковать британцев под городом Саванной. Атаку многие расценили как безрассудную, но поляк ясно видел, что она уменьшит натиск британцев на французов, которые воевали в союзе с американскими колонистами, и даст им возможность перейти в наступление. Фактически, Пулавский со своим легионом возглавил это наступление вместо только что застреленного французского генерала. Увы, но именно в этом бою Пулавский оказался смертельно ранен. Он умер после двух дней мучений.
Встретивший такое неприятие среди американских офицеров, после своей смерти Пулавский стал героем зарождающейся нации как отец американской кавалерии и офицер, всегда верный делу борьбы за независимость. В стране стоят семь памятников заносчивому поляку. Множество улиц и мостов названы его именем. 11 октября, в день его смерти, кавалеристы страны традиционно отмечали его память. А в 2009 году США посмертно назначили Пулавского почётным гражданином страны.
Один из американских памятников Пулавскому.
Психика власти
В своей книге "Психика власти" Джудит Батлер пытается понять печально известный пример
Альтюссера, полицейский окликает прохожего на улице, и прохожий оборачивается и признает себя как того, кого окликнули. И тут происходит социальная магия под воздействием идеологии человек становится объектом власти! При чём не следует понимать пример буквально, когда власть именует нас народом и вменяет нам патриотизм, любовь к родине, социальную ответственность происходит абсолютно тот же процесс.
Примечательно, что Альтюссер не дает и намека на то, почему этот индивидуум оборачивается, принимая голос как обращенный именно к нему и принимая субординацию и нормализацию, этим голосом вызванные. Почему субъект оборачивается на голос закона и каковы последствия такого оборота для инаугурации социального субъекта?
Чтобы объяснить механизм власти Джудит Батлер обращается к известной концепции Гегеля раба и господина, это теория всего лишь звено в длинной цепочке логики и конечно она не даёт полную картину и привожу я её просто потому что она мне очень нравится)) кроме того это такая классическая теория, с ней работали очень многие философы, особый вклад внёс Кожев русско-французский философ-неогегельянец.
Фактически императив раба формулируется так: ты будешь для меня телом моим, но не позволишь мне знать, что тело, что ты есть, есть мое тело.
Раб непрестанно вырабатывает объекты, что принадлежат господину. В этом смысле как его труд, так и его продукты с самого начала предполагаются чем-то другим, нежели чем его собственными, то есть — экспроприированными. Они отдаются до всякой возможности отдать их, поскольку они, строго говоря, нисколько не раба — чтобы он мог их отдавать.
Когда раб непрестанно трудится и начинает осознавать свою подпись на изготавливаемых им вещах, он признает в форме обрабатываемых им артефактов отметины своего собственного труда, отметины, формативные для самого объекта. Этот труд, эта деятельность, с самого начала
принадлежащая господину, тем не менее отражается назад к рабу как его собственный труд, труд, исходящий от него, хотя и кажется, что он исходит от господина.
Можно ли тогда отраженный назад труд в итоге назвать собственным трудом раба? Другими словами, если раб продуцирует автономию, имитируя тело господина, и эта имитация остается от господина скрытой, то «автономия» раба, вероятно, есть продукт этой симуляции флексии через обработку и создание объекта, несущего отметины его бытия, и потому понимает себя как бытие, формирующее или создающее вещи, что его переживают, как производителя существующих далее постоянно вещей. Для господина же, занимающего позицию чистого потребления, объекты преходящи, и он сам определяется как серия преходящих желаний. Для господина, значит, ничто не должно длиться, исключая разве что его собственную потребительскую деятельность, его собственное бесконечное желание.
Обрабатывать объект — значит придавать ему форму, а придавать ему форму означает давать ему существование, что преодолевает преходящесть. Потребление объекта есть негация этого эффекта его постоянности; потребление эффекта есть его деформация. Накопление собственности, однако, требует скорее обладать объектами, чем потреблять их; только как собственность объекты действительно сохраняют свою форму и «задерживают исчезновение».
Только как собственность объекты действительно исполняют то телеологическое обещание, которым они были инвестированы.
Значит, раз объект определяет его, отражает назад то, что он есть, является текстом подписи, благодаря которому он обретает смысл того, что он есть, и раз эти объекты неумолимо жертвуются, значит, он есть бытие, неумолимо жертвующее самим собой.
Гегель вводит стоицизм как некое защитное цепляние, отделяющее мыслительную деятельность от любого содержания.
По Гегелю, за стоицизмом следует скептицизм, поскольку скептицизм начинается с предполагания непреодолимости мыслящего субъекта. Для скептицизма «я» есть постоянно отрицающая деятельность, активно опровергающая существование всего на свете — что является его конститутивной деятельностью.
И если другой скептик разоблачит противоречия первого, тогда первый будет вынужден принять во внимание свою собственную противоречивость. Такое понимание его собственной противоречивости приведет его к новой модальности мышления. В этой точке скептик начинает осознавать конститутивное противоречие своей собственной отрицающей деятельности и несчастное сознание возникает как явно выраженная форма этической рефлексивности.
«Созерцающий» ребенок преображается в судью, что «выносит суждение», и тот аспект «я», о котором выносится суждение, погружен в переменчивый мир телесного чувствования.
Несчастное сознание стремится преодолеть эту двойственность, разыскивая тело, что воплощало бы чистоту его неизменной части; оно стремится вступить в отношение с «неизменным, приобретшим внешний облик или воплощенным». Для этого субъект ставит свое собственное тело во служение мышлению неизменного; это покоряющее и очищающее
усилие есть усилие благоговения. (затуманивающий глаза перезвон колоколов, как пишет Гегель) Выходит, благоговение, что стремится инструментализовать тело во служение неизменному, оказывается погружением в тело, что перекрывает доступ к чему-либо еще, таким погружением, что принимает тело за неизменное и так впадает в противоречие. Коллапс благоговения в нарциссизм, если это можно так назвать, означает, что в рамках жизни невозможно окончательно расстаться с телом. Вынужденная признавать неизбежность тела как предпосылки, возникает новая, отчетливо кантианская форма субъекта. Если существует мир кажимости, где тело существенно, то тогда безусловно существует и ноуменальный мир, где для тела нет места; мир разделяется на длясебя-бытие и в-себе-бытие.
С другой стороны, его собственные действия должны конструироваться как непрерывное самопожертвование, которым «я» доказывает или демонстрирует свою собственную благодарность. Такая демонстрация благодарности становится неким самовозвышением, что Гегель назовет «крайностью единичности»
Кажется, что в качестве объекта сосредоточенности на себе Гегель полагает дефекацию:
«{животные функции}, вместо того чтобы просто, [естественно и без затруднения] выполняться как нечто, что в себе [...] ничтожно и не может приобрести важности и существенности для Духа, составляют, напротив, предмет серьезных усилий и становятся прямо-таки самым важным делом1, поскольку именно в них обнаруживается враг в своем специфическом обличии. Но так как этот враг, терпя поражение, возрождается, а сознание, поскольку оно сосредоточивает свое внимание на нем, вместо того чтобы освободиться от него, напротив того, всегда пребывает при
этом и всегда видит себя оскверненным Все, что жертвует низменное сознание, то есть все экстернализации, включая вожделение, работу и экскременты, должны конструироваться как жертвы, как епитимья. Священник учреждает телесное самопожертвование как цену святости, возвышая отказной жест экскреции до религиозной практики, посредством чего ритуально прочищается все тело целиком. Освящение низменного происходит через ритуалы постов и умерщвления плоти {fasten und kasteien}. Поскольку от тела невозможно полностью отказаться, как думали стоики, от него должно ритуально отречься. В этой ситуации Гегель отходит от того, что до сих пор было схемой объяснения, где самоотрицающая поза понималась как поза, феноменализация, опровергающая ту негацию, что она стремится установить. Вместо такого объяснения Гегель утверждает, что через действия жертвующего собой кающегося проявляется чужая воля. Но фактически жертвование собой не опровергается тем заявлением, что такое жертвование есть волевая деятельность; скорее, Гегель утверждает, что в жертвовании собой реализуется чужая воля.
Кающийся отрекается от своих действий как своих собственных, признавая, что чужая воля, воля священника, реализуется через его жертвование собой и, далее, что воля священника определена волей Бога. Встроенное, таким образом, в великую цепь воль, отвратительное сознание вступает в сообщество воль. Хотя его воля определенна, она тем не менее связана с волей священника; в этом единстве впервые различается понятие Духа. Посредник или священник поучают кающегося, что его боль будет оплачена вечным изобилием, что его страдание будет оплачено вечным счастьем; страдание и боль предполагают будущую трансформацию в свои противоположности.И когда самосознание признает себя частью религиозного сообщества воль, оно переходит от само-сознания к Духу. Всякая попытка низвести себя к недеянию или к ничто, субординировать или подавить свое собственное тело непреднамеренно завершается производством самосознания, деятельно ищущего удовольствия
и возвышающего себя. Всякая попытка преодолеть тело, удовольствие или действие оказывается не чем иным, как утверждением как раз этих свойств субъекта.