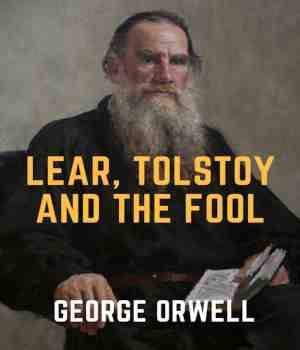Как коварный Адмирал Нимиц провалил свою подрывную деятельность на борту атомного подводного крейсера БДРМ 667
Перестроечные времена я находился в религиозных исканиях, но, так как подобная литература в основном распространялась самиздатом, а в славном городе Семипалатинске самопечатные книги были доступны весьма ограниченному количеству людей, то я черпал религиозную информацию из атеистических библиотек и книг. "Пропагандист" был моим любимым книжным магазином. Там было неимоверное множество чтива серии "словарь атеиста" разной направленности (католицизм, православие, протестантизм и т.д.), откуда можно было взять много интересного. Но вот ограниченность доступности первоисточников никак не давала моему уму покоя. С приходом Горбачёва появилась возможность писать зарубежным религиозным организациям.
И вот, однажды, в ответ на моё письмо в YMCA-Press во Францию, мне пришла Библия, почему-то из США. А позже, к Рождеству следующего года, оттуда же, ко мне домой в (Семипалатинск, КазССР) пришла рождественская открытка в необычном длинном конверте. В это время я уже "отучился" в северодвинской учебке, помыкал месяц в североморском ПТК, другой месяц в чужом экипаже в казарме Оленьей Губы и, наконец, попал в свой экипаж. Короче, моя мама переслала мне эту открытку вместе с конвертом на адрес моей воинской части, и она зависла где-то на проверочных столах КСФ на пару месяцев.
Нужно отметить, если ты "карась" (новобранец первого года службы) эпохи конца 80-х, начала 90-х, то в экипаже к личности скоропостижного "карася" офицеры и мичманы в целом как-то безразличны. Кем ты был, кто ты такой, откуда ты, на кого учился — особо никого не интересует. Советская система очень хорошо калибровала срочный состав ВМФ — это должны были быть физически здоровые, с хорошим слухом, зрением и абсолютно благонадёжные юноши без каких-либо связей с зарубежьем, и поэтому военкоматское анкетирование калибровало среднестатистического морячка-срочника, готового хранить секреты Родины. В большинстве своём это был бывший ПТУшник из люмпен-пролетариата, который у офицерского состава ничего, кроме брезгливости и нервного тика, не вызывал. Поэтому чаще всего офицеры и мичманы стояли в одной упряжке с "годками", опуская "карася" на тот уровень, где жизнь ему пряником не покажется НИ-КО-ГДА! Как ты будешь выживать в коллективе — этот процесс в целом во всех вооружённых силах СССР (впрочем, и других стран) был отдан в руки дарвиновского естественного отбора.
Казалось, замполиты должны были хоть как-то помогать борьбе за выживание отдельного индивидуума, но в тот год (1992) их должность разжаловали в "помощников командира по воспитательной работе" или что-то вроде того, и у всех у них случилась повальная депрессия. Короче, наш замполит, человек приветливый и в целом неплохой, как я его увидел в первый день, оказался весьма далёк от задач, поставленных перед ним партией и флотом, так как он боролся со своей депрессией пребыванием в лёгком поддатом состоянии, и до ближайших учений выходить из этого состояния не собирался. Зато наш особист оказался весьма трезвой, интересной и любопытствующей личностью. Моя анкета повергла его в полный восторг, и он вызывал меня несколько раз к себе "на ковёр", чтобы проверить мою благонадёжность, но, окончательно уверившись, что я не конченный пацифист, потерял интерес к моей скромной личности.
На экипаже я оказался в БЧ-2 (ракетчики), где "карасёвка" должна была быть полегче, чем в остальных отсеках. Однако наших годков — "китайцев" — было много, а "карасей" — полтора человека. В 1992-м году отменили трехгодичную службу, и нас уже призвали на два года, из-за этого "годки" свирепствовали еще страшнее. "Карас" был побиваем ни за что, ни про что, - просто за то что "мы служить должны были три года, а вы падлы два! - Получайте!".
В это время экипаж готовил борт к выходу в моря, а большинство офицеров, мичманов и "годков" никак не хотели выходить из запоя, так как с берега на борт просочился спирт "Royal" и ещё худшее, подобное ему пойло с изображением двуглавого орла.
Приборки, погрузки провианта, все ПХД и так всегда были на плечах у "карасей". Ну а перед выходами в моря зимой, когда нужно долбить пирс и бесконечно чистить верхнюю палубу от снега, драить "медь" для показухи перед разного рода комиссиями, личного времени не оставалось ни секунды. Первый месяц я спал часа по четыре за ночь, и тут меня сделали "вестовым", что сократило время сна до двух часов в ночь. Плюс ко всему прочему добавилась ночная чистка картофеля, "хлебопечество", накрытие на столы. Днём, понятное дело, "карась" права спать не имел, и если был замечен за этим делом, то был тут же побиваем "годками". А если "карась" бывал замечен за сном кем-либо из офицеров или мичманов, то тут же следовал крик: "Шерали! Какого х% у тебя тут оборзевшие "караси" спят и ничего не делают!?" Прибегал "подгодок" Шерали, и всё это заканчивалось побоищем (не публичным, конечно, с "годковщиной" официально боролся весь флот) "карася" с дальнейшим наказанием — мытьём трюма с мылом. А если "карась" был замечен, что он в разговоре смеётся или улыбается, это означало, что жизнь у него слишком расслабленная, и наказание за приветливую улыбку было ещё веселее — драить дучки и гальюны своей зубной щеткой. Таковы правила были заведены во всех 14-ти экипажах дивизии.
Кое-как в декабре мы вышли в моря. Швартовка. Постановка на бочки в Оленьей на размагничивание. Шторм. Торпедные стрельбы. Шторм. Швартовка. Три недели морей прошли незаметно. И за это время по приходу в базу на пирсе тебя ожидали долгожданные письма из дома — пожалуй, единственная отрада для "карася". Но почему-то мне ничего не пришло.
Вдруг меня вызывает особист к себе в каюту. Среди других писем, пришедших ко мне, он достаёт длинный необычный конверт и показывает:
— Алёша, это тебе? — По всей видимости, мне. Я же не скрывал от вас, что я верующий — я уже заметил рождественскую тематику конверта. — А ты не видишь ничего странного в этом письме?
Я достал открытку из вскрытого письма, повертел её в руках.
— Да нет, это же поздравление с Рождеством. — А ты не видишь здесь какого-нибудь скрытого посыла?
Я призадумался, но не пойму, к чему этот вопрос, и отвечаю:
— Ну, Рождество было не то чтобы запрещено в СССР, просто не приветствовалось партией. А сейчас перестройка, гласность, и в самом этом празднике нет ничего плохого, и даже капли антисоветского.
Он прищурился как Владимир Ильич на известном портрете, как-то особенно по-доброму:
— Ну а в этом конверте разве ты не видишь ничего такого странного?
Я этот конверт и так, и этак повертел — ну ничего не вижу, никакого подвоха.
— Нет, — говорю. — А вот в этой почтовой марке ты не видишь ничего подозрительного?
Я смотрю на почтовую марку и вижу там мужик в кепке. Больше ничего я в том не увидел. Я говорю:
— Нет. — Это же Адмирал Нимиц!!! Это не кажется тебе странным?
И тут я не выдержал. Если бы даже какие-либо зловредные американские деятели затеяли свою подрывную деятельность на нашем борту через меня, пытаясь как-то связаться через намёки в марке почтовой открытки, они провалили свою операцию, потому что наш доблестный флот сделал всё, чтобы этого не случилось. Предыдущие 12 недель я спал в среднем по три часа в сутки, делал невозможное: драил, мыл, таскал, грузил ЗИПы, оттирал гидравлику в трюмах, а по ночам жарил хлеб и чистил картошку, стоял вахту за "годков" и мичманов, не имел права на улыбку. И во мне накопилось столько дурной энергии, что я стал смеяться как сумасшедший во весь голос, хлопая себе ладонями по коленям. Я ржал как дикий конь так, что меня было слышно через два отсека.
Тут особист как-то разочарованно расслабился и сказал:
— Ну ладно, сынок, возьми свою открытку, иди, служи дальше...
Расшифровка флотского "суржика":
ПТК — Профессионально-Техническая Комиссия, воинская часть, где военнослужащие ждут распределения по частям для окончательной воинской службы.
КСФ — Краснознамённый Северный Флот.
Годковщина — дедовщина на флоте.
"Карась", "карасёвка" — флотский новобранец в течение первого года службы.
"Подгодок" — моряк трёхгодовой срочной службы, которому остался год до демобилизации.
БЧ-2 — ракетная боевая часть корабля/экипажа.
"Китайцы" — моряки, служащие в БЧ-2 . "Почему "китайцы"? Да потому что их много и ничего не делают."