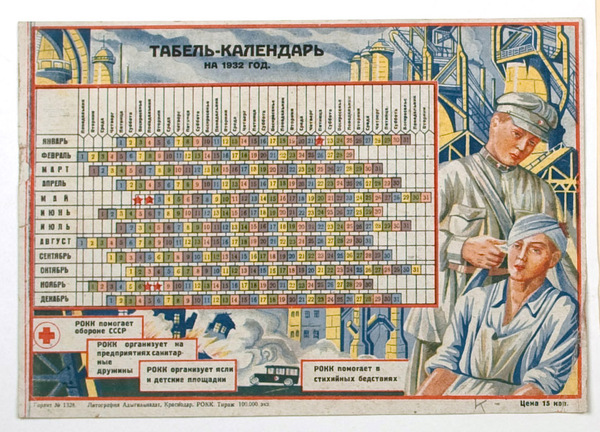Мясоедов. Земство обедает: что на самом деле изображено на картине
Картина Мясоедова "Земство обедает", написанная в 1872 году, на первый взгляд кажется типично передвижнической. Маловнимательные советские искусствоведы были склонны считать, что на картине изображены крестьяне, пришедшие с какими–то просьбами в "земство", но заставшие время обеда. Обед "земцев" обставлен солидно (в окне виден то ли буфетчик, то ли официант), а бедные мужики вынуждены удовлетворяться хлебом и луком.
Более внимательные искусствоведы замечали, что настоящие название картины — "Уездное земское собрание в обеденное время". Появилось другое объяснение — участники земского собрания–баре обедают со смаком, выгнав участников–мужиков на улицу, и те глодают краюху хлеба.
Что же изображено на картине на самом деле, кто такие земцы, чем занимается земство и какие вопросы решаются на земском собрании?
Для начала разберемся, где происходит действие. Григорий Мясоедов был помещиком Новосильского уезда Тульской губернии, он учился в гимназии в Орле, потом поступил в Академию художеств и по ее окончании уехал в Европу, где и находился до 1870 года. Резонным будет предположить, что художник нарисовал именно знакомый ему Новосиль, единственное место, где он мог ознакомиться с уездной жизнью. Описание здания в отчетах земства — двухэтажное, деревянное, оштукатуренное под камень — также сходится с картиной. Новосиль — маленький город, в то время в нем жило чуть более 4 тысяч человек.
Теперь разберемся, чем было земство. Земства Тульской губернии были открыты в 1865 году, одновременно с 33 другими губерниями Центральной и Южной России. Земства были органами местного общественного самоуправления, существовавшими на двух уровнях — губернском и уездном. Уездное земство состояло из периодически собираемого земского собрания, выборных членов которого называли гласными, и постоянно действующей управы из председателя и 4 членов.
Деятельность земств на момент написания картины была чрезвычайно малоинтенсивной. Что именно делало Новосильское земство? Это прекрасно видно из сохранившихся печатных отчетов. Во–первых, у земства были твердые обязанности перед государством: оно обеспечивало постоем (то есть проживанием) проходившие через уезд войска (получая за это компенсацию), постоем и лошадьми для разъездов полицию, чиновников и судейских, если у тех оказывались дела в сельской местности уезда (бесплатно). Земство выступало оператором сельских продовольственных капиталов — запаса зерна и денег, который крестьяне держали на случай неурожая. Всеми остальными разрешенными видами деятельности — медициной, начальным образованием, местными дорогами, страхованием от огня, ветеринарией — земство занималось в том объеме, в каком желало. Объем этот был очень и очень невелик. При 115 тысячах населения в уезде земство поддерживало в рабочем состоянии 46 деревянных мостиков через речушки и овраги (сами дороги крестьяне чинили в порядке натуральной повинности в размере 3 рабочих дней в году). Медицины почти что и не было — земство содержало 2 врачей, 8 фельдшеров и больничку на 20 кроватей. Земского образования не было вовсе — земство платило мизерную дотацию в 6000 рублей суммарно всем содержателям школ и даже само не знало, сколько школ в уезде. На благотворительность уходила ничтожная сумма — 2000 рублей в год. Земской ветеринарии не было вовсе, а страхование находилось в зачаточном состоянии.
Нетрудно догадаться, что обходился этот небольшой набор социальных сервисов тоже недорого — годовой бюджет земства составлял 48 тыс. рублей, причем с крестьян собирали только 22 тысячи, около 20 копеек в год на человека. Чтобы понять масштаб такого бюджета, надо указать, что он сопоставим с обычным для той эпохи годовым жалованьем наемного управляющего железной дорогой или коммерческим банком. Вот почему крестьяне на картине держатся так хладнокровно — что бы не постановило уездное земское собрание, в конце концов с них соберут очень мало налогов, на которые они получат очень мало услуг. Беспокоиться тут не о чем. Крестьяне даже не пытаются обсуждать между собой малоинтересную повестку собрания.
Теперь расскажем о самом земском собрании. Собрание выбиралось по сословиям. Новосильские помещики, имевшие более 200 десятин (215га), собирались на общий съезд и выбирали 17 гласных. Горожане с высоким имущественным цензом (на практике домовладельцы с крупными домами и купцы 1й гильдии) на своем собрании выбирали 2 гласных. Крестьяне выбирали на 35 волостных сходах выборщиков, а те на своем съезде выбирали еще 18 гласных. Кроме того, в собрании по должности участвовали уездный предводитель дворянства (он был председателем) и городской голова. Итого, у крестьян (а их было 96 тысяч, то есть 14–16 тысяч домохозяйств) было 18 голосов из 39, а у дворян (около 80 семей помещиков) — тоже 18 голосов. Не очень–то честно. Впрочем, несостоятельные горожане не были представлены в собрании вообще.
Собрание проводилось один раз в году, и новосильские дворяне повели себя по–джентльменски — стали устраивать его в конце сентября, а не в декабре, как то было в большинстве земств. В чем была вежливость? На зиму многие крестьяне уходили из деревни — подрабатывали извозом, находили временную работу в городе. В конце сентября все были еще дома, и такое время для собрание давало гласным–крестьянам возможность совместить поездку в город с продажей урожая и, в ожидании окончания обеда, погреться на последнем солнышке у дверей. Правый мужик, не теряя времени даром, прикупил себе в городе подойник (надо думать, емкость, в которую доили корову).
Кем были баре, на существование которых художник только намекает, и как выглядел их обед? Земство занимало наемный купеческий дом (свой дом оно начнет строить только на следующий год), и, разумеется, 39 членов собрания еле–еле помещались в самую большую из его комнат. Земство было так бедно, что располагало только 2 креслами и 10 стульями — даже стулья к собранию приходилось выклянчивать у соседей (наверное, в трактире). Так что обедающие в здании дворяне сидят на разношерстной сборной мебели и в страшной тесноте. Хочется верить, что кто–то из помещиков побогаче привез своего повара, и им хотя бы досталась вкусная еда. Разумеется, обед проводится не за счет земства, и участники оплачивают его вскладчину. По этой причине гласные–крестьяне не посчитали необходимым тратить на ненужный им обед с дворянами 2–3 рубля в день в течение 5–6 дней, которые занимало собрание, и спокойно ожидают его окончания на улице.
Что мы знаем о самих барах? Почти ничего, из заметных людей в здании только четверо Сухотиных, членов старой дворянской семьи с большими литературными и светскими связями в столицах. Председатель собрания, штабс–ротмистр в отставке Алексей Михайлович — приятель и постоянный корреспондент Тургенева, его брат Сергей, чиновник московского дворцового ведомства — знакомец и сослуживец по Севастополю Льва Толстого, сын Сергея в дальнейшем станет зятем писателя. Уход жены Сергея Сухотина к новосильскому же помещику Лодыженскому — один из источников сюжета "Анны Карениной"; непосредственно этих людей на собрании нет, но большинство местных дворян с ними знакомо; один из Лодыженских — член управы. Имена всех остальных участников обеда покрыты ныне мраком безвестности.
Кстати, а почему на картине 8 крестьян, ведь гласных от крестьян было 17? Как ни странно, все остальные гласные от крестьян были дворянами, один из них был полковником, а еще один князем. Эпоха была патриархальной, население было пока что небольшим, земли хватало, многие крестьяне были еще довольны условиями наделения землей — так что довольно часто крестьяне доверяли представительство своих интересов помещикам. Кроме того, наделение землей бывших крепостных в губернии было еще не окончено, и там, где оно предстояло, крестьяне хотели как–то подмаслить барина бесплатным для себя способом — а выбор в гласные для этого отлично годился. Заметим, что в земской управе из четырех членов двое были крестьянами.
Сколько получали земцы? Зарплата была только у управы, председатель получал 700 рублей в год, члены по 600. Это было умеренное жалованье — земским врачам платили 1000, бухгалтеру управы — 330, писцам по 200. Для сравнения, губернатор получал 10000, профессор — 3000, учитель гимназии — 1300. В земствах, за редчайшими исключениями, не воровали. Так что обедающие дворяне не нажили от земской деятельности капиталов; и обед, и участие в собрании для всех его участников есть чистый расход денег. Надо понимать, что дворяне не лечились у земских врачей бесплатно, не ходили в земские школы — из всех земских сервисов им сами были полезны лишь дороги (едва существовавшие), в то время как налог с земли они платили по единой с крестьянами ставке.
Теперь перейдем к предполагаемой бедности крестьян. Двое из крестьян одеты в синие полосатые штаны и сапоги, на одном голубая рубашка, а на одном — даже алая верхняя одежда (полукафтан?). Напомним, что синтетические красители (и ярко окрашенные ткани) все еще являются дорогой импортной новинкой, производство первого из них — мовеина — начали всего лишь 15 лет назад, а одежда спящего окрашена еще более дорогим и модным фуксином. Да у губернаторши платье от модистки–француженки приблизительно из такой же ткани! Так что как минимум двое владельцев сапог не бедствуют, а спящий в алом — просто предмет зависти целой волости. Третий справа мужик не имел ничего цветного, но, чтобы не отставать от Джонсонов, надел очень основательный полушубок, хотя на улице еще и не холодно. Одежда и обувь на всех крестьянах полностью исправна. У стоящего мужика с полосатой сумкой — не крестьянская лохматая борода, а подбритая и подстриженная эспаньолка, для той эпохи — барского фасона, то есть перед нами модник.
Почему обед мужиков так скуден? Всё очень просто, крестьяне работали на полях и не имели времени возвращаться в дом, так что они привыкли днем только слегка перекусывать холодным, а горячую еду есть лишь вечером. И даже не каждый день –летом большую русскую печь не топят ежедневно, в ней варят еду сразу на 3–4 дня. Так что крестьяне (и неработающие аристократы) в то время следовали обычаю плотно есть вечером, а все работающие горожане (в том числе и служащие дворяне) обедали в привычное для нас время. Таким образом, обеды дворян и крестьян на картине контрастируют не по калорийности, а по времени — дворяне к середине дня проголодались, а крестьянам пока и не хочется ничего, кроме куска хлеба; еще раз напомним, что у спящего в алом уж точно хватает денег на сытнейший обед в трактире. Интересно и то, что крестьяне почти ничего не пьют, крынка (с квасом?) есть только у одного из них — воду из городских колодцев и речек ни в коем случае не следовало пить некипяченой, а у бар, видимо, еще не закипел самовар (разумеется, кипятком–то с крестьянами поделятся).
Теперь, после объяснения, содержимое картины вырисовывается по–иному. Крестьяне не показывают никаких признаков бедствий, и их никто не выгонял с барского обеда — обед им не очень–то и интересен, у них другие привычки и обычаи. Крестьяне никуда не торопятся и ничего не ждут — они уже приехали в город на собрание, которое занимает целую неделю. Они мирно, пользуясь хорошей погодой, сидят у крыльца как ящерицы, в состоянии оцепенения, обычном для земледельца, привыкшего ничего не делать полгода. Если что–то в картине и можно считать объектом критики, то это разлитая в воздухе провинциальная лень и спокойствие. Крестьяне выглядят скорее осоловевшими, чем возбужденными от дискуссий на важные для них темы. Это же их земство, их дела, можно было бы и поволноваться, ну хотя бы обсудить постановленное в утреннем заседании! Но не факт, что художник вкладывал в картину именно такие мысли. Быть может, земско–провинциальная лень казалась ему столь же очевидной и неизбежной, как и персонажам картины.