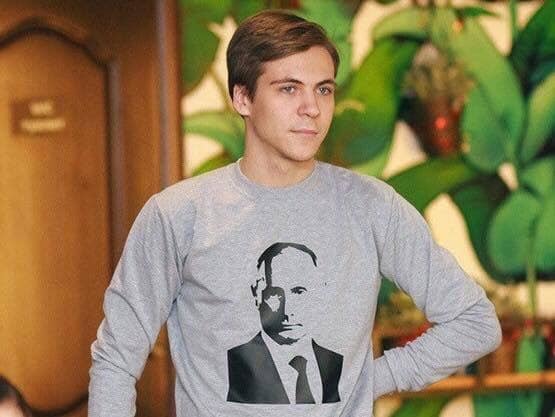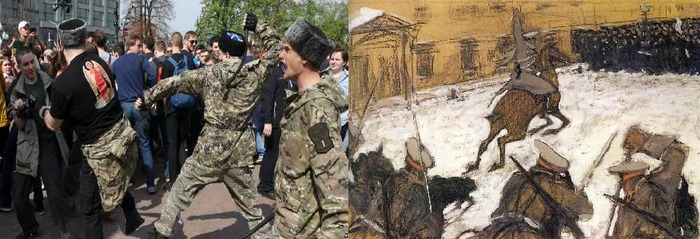Упадет ли Керченский мост? Хроника выдуманной трагедии
Данный пост посвящен распространяющимся в сети слухам о том, что Крымский мост спроектирован как–то ужасающе неправильно и вот–вот разрушится; квинтэссенцией этих панических ожиданий является статья некоего Эли Беленсона в ЖЖ "Керченский мост. Хроника грядущей трагедии. Непутёвые заметки гидрогеолога" (link), которая в разнообразных пересказах успела разойтись по всем интернет-ресурсам.
1. Все проекты в нашей стране проходят обязательную экспертизу, для частных проектов она частная, для госзаказа государственная, проектами особо важными, вроде Крымского моста, занимается главная государственная экспертиза. В некоторых случаях экспертиза может выявить проектные ошибки и сделать полезные замечания, но ее возможности не следует переоценивать. Особенность строительного проектирования заключается в том, что настоящей проверкой проектных расчетов может быть только полный повторный расчет, а настоящей проверкой геологических изысканий под строительство могут быть только повторные контрольные изыскания.
Что делает эксперт, получив том изысканий? Он смотрит, по нормам ли принято количество скважин и их глубина, правильно ли скомплектован том, не пропущены ли в итоговых таблицах какие–то нормативно требуемые показатели. Да, эксперт может увидеть несусветные ляпы – у гранита по таблице оказались такие характеристики, какие бывают у песка, или геологические слои идут в неестественном порядке. Но, если мы представим себе, что негодяйские, но профессиональные изыскатели сделали три скважины, а написали отчет так, как будто ими сделано десять, ловко подогнав все материалы, то эксперту это, увы, не поймать.
Еще хуже с проверкой расчетов конструкций. Что тут может проверить эксперт? Может посмотреть, верно ли заданы нагрузки, верно ли приняты в расчете узлы (чтобы не вышло так, что сосчитали шарнирный, а в чертежах законструирован жесткий). Разумеется, будет проверена полнота самого расчета (на все ли нормативно требуемые условия, сочетания нагрузок и т.п. рассчитана конструкция). На этом возможности эксперта заканчиваются, повторять весь расчет от начала до конца он не будет. В принципе, расчет тоже возможно сфальсифицировать, подсунув эксперту, для примера, начальные листы со схемой нагрузок из расчета под большую нагрузку, а итоговые листы с проверкой принятого армирования (или сечений, или чего еще) из расчета под меньшую нагрузку.
О боже, а как же мы защищены от злодейств ленивых и проектировщиков? Да никак, мы, по существу, всегда полагаемся на их компетентность и порядочность, а не на то, что кто–то бесконечно внимательный и мудрый будет проверять чужие проекты до последней черточки. Но ничего специфичного для зданий тут нет. Качество огромного количества наиважнейших вещей вокруг нас всецело находится на совести исполнителей. Напоминаю, что проект самолета не проходит сторонней экспертизы вообще, как проектировщики придумали, так самолет и делают. А еда проходит экспертизу, но самым глупым образом – производитель сдает на экспертизу образец, но никто потом не проверяет его соответствие выпускаемой продукции.
Хорош или плох такой порядок вещей? Это бессмысленный вопрос, потому что другого порядка вещей не может быть. Нам не построить мир, в котором над каждым профессионалом будет стоять еще один профессионал–проверяльщик, более квалифицированный, внимательный, неподкупный, не совершающий ошибок. Строительство тут не исключение.
В этом смысле мы не знаем, хорош или плох проект Крымского моста, упадет ли он прямо сейчас или простоит тысячу лет; любые проверки проекта, как их не делай, всегда будут полуфиктивными. Единственное, на что мы полагаемся – на то, что его спроектировали добросовестные и компетентные люди. Ужас? Может быть и ужас, но только это все относится не только к Крымскому мосту, но и к любому другому зданию и сооружению вокруг нас. Можно бояться, что Крымский мост упадет – но только тогда надо бояться, что заодно упадут и все другие современные мосты. И все небоскребы Москва–сити. И дом, в котором живешь ты, читатель. Процедуры контроля, защищающие от проектных ошибок, во всех случаях были принципиально одинаковы.
2. Проектные материалы в нашей стране являются проприетарными, принадлежат, на сложном разделении прав, заказчику и проектировщику, и не подлежат обязательной публикации. На практике они вообще никогда не публикуются, включая сюда и здания, строящиеся по государственному заказу. Это лишает нас возможности высказать развернутое, обоснованное мнение о технической стороне любой постройки вокруг нас. Все технические замечания, которые может сделать профессионал о любом сооружении, будут достаточно поверхностными и по умолчанию могут касаться только достаточно очевидных вещей. О том, что не видно – например, о фундаментах, судить вообще невозможно. Заметим, что если бы материалы публиковались во всеобщее сведение, мы все равно не дождались бы дельной критики – чтобы раскритиковать, для примера, чужую конструкцию фундамента, надо повторно проделать весь расчет, а это большой труд. Беглая проверка принципиальной конструкции фундаментов Крымского моста (с предложением лучшей альтернативы) – это занятие на полный рабочий день на два–три месяца. Трудно представить себе человека, который бросил бы работу и трудился бы три месяца дома задаром, чтобы навести критику на Крымский мост.
Это еще раз приводит нас к мысли, что сложные объекты проектируются в обстановке общественного доверия к профессионалам, и если обязательная экспертиза проектов носит, в расчетной части, полуфиктивный характер, то общественная экспертиза (даже при условии публичности проектных материалов) и вовсе малореальна.
3. Итак, мы поняли, что проект Крымского моста нам недоступен, проектные решения нам известны только по самому краткому пересказу, настолько краткому, что по он не дает возможности вынести разумное суждение, а экспертиза проекта на самом деле не была серьезной и компетентной проверкой проектных решений.
Что тогда можно сказать о конкретной статье Беленсона? Достаточно понимать, что у него, как и у нас, тоже не было доступа к проекту. Все характеристики проекта, которые он критикует, ему на самом деле неизвестны, все расчеты, которые он считает неверными, ему недоступны и им самим не повторялись. Беленсон знает о Крымском мосте ровно столько, сколько и мы – то есть почти ничего. И это ровно столько же, сколько мы и Беленсон знаем о любом другом ответственном сооружении.
Это естественное отсутствие реальной информации Беленсон заменяет дикими натяжками и прямыми подвираниями. Все его утверждения – просто фантазии, не подкрепленные фактами. Их нельзя критиковать – надо просто спросить, с чего он это взял; на этот вопрос Беленсон ответить не сможет.
Пройдемся по деталям.
3.1. Беленсон не располагает геологическими изысканиями под мост, которые выполнялись где–то до глубины 120–140м. Мост, как мы знаем, опирается на грунты на глубинах до 75–105м. Разрез, найденный Беленсоном, доходит только до глубины 65 м. Порядочный человек на месте Беленсона сделал бы вывод, что он не знает, на какие грунты опираются сваи моста. Беленсон делает вывод, что фундаменты моста опираются на грунты, увиденные им на глубине 60м, и несущая способность данных грунтов недостаточна. Но и это утверждение Беленсон не подкрепляет никакими расчетами – и не мудрено, у него нет исходных данных для расчета, так как схема нагрузок на свайный фундамент также ему недоступна, а таблица свойств грунта до глубины 65м доступна не полностью. Но ничего, сваи не несут потому, что Беленсону так вздумалось, а опираются на те грунты, которые Беленсону приснились.
3.2. Беленсон позволяет себе и прямое жульничество. В старом СНиПе про строительство в сейсмических районах содержалась норма, которая разрешала строить арочные мосты только на скальном основании. В 2017 году СНиП был перередактирован, и данная норма исчезла. По мнению Беленсона, это следствие заговора с целью покрыть преступно неправильное конструирование Крымского моста. Разберемся поподробнее.
Арка – это конструкция с большими горизонтальными усилиями (так называемый распор), жестко раскрепленная к опорам моста. Арка типична для мостов 19 века, но сейчас (в России) полностью вышла из употребления на больших мостах; мосты с истинной аркой сегодня бывают только полудекоративными, через всякие ручейки в парках. То, что мы в просторечии называем арками, есть не настоящие арки, а арочные фермы или арки с нижней затяжкой. Особенность этой конструкции в том, что распирающие горизонтальные усилия от арки приходятся не на опоры, а на другой элемент пролета – затяжку, которая обычно является основанием для дорожного полотна. Общие усилия от такого пролета на опоры точно те же, что и от простой балки – он давит на опоры только вертикально вниз, а не распирает их вбок. Соответственно, и опирание такого пролета конструируется как для балки – с одной стороны шарнирное, а с другой скользящее (это позволяет снять, за счет сдвижки узла опирания, небольшие горизонтальные усилия, возникающие при деформации балки под нагрузкой и при ее температурном расширении). Получается, что центральный пролет Крымского моста на вид у нас арка, но в смысле расчетном, для конструирования опор моста и их фундаментов, мы имеем балку.
Это простейшее соображение (первый семестр первого курса по строймеху) аннулирует все дальнейшие конспирологические теории Беленсона про изменение СНиП. СНиП изменили в плановом порядке, и изменили тот пункт, который изначально не имел к Крымскому мосту отношения.
3.3. Все суждения Беленсона про грунты, годные и негодные для основания мостов, представляют собой дикий бред. Любой грунт годен и негоден в качестве основания сооружений только контекстуально, в привязке к конкретному случаю, конкретной нагрузке, конкретному типу фундаментов. Бывают мосты, опирающиеся на самый неподходящий из грунтов – чистую воду, это (как уже догадался читатель) понтонные мосты. Есть сооружения, умеющие, за счет всяких хитростей, стоять на вечной мерзлоте. Весь Петербург 18–19 века, включая сюда и старые мосты через Неву, построен на болоте, на иле, и построен при самых слабых строительных средствах, на хлипких бутовых фундаментах, на бревенчатых лежнях, на коротеньких деревянных сваях. Исаакиевский собор, Литейный мост и тому подобные вещи стоят на самых слабых болотных грунтах или грунтах речного дна, ибо ничего иного на глубине, технически доступной для той эпохи, в Невской дельте не бывает. Да и современные здания в Невской дельте стоят тоже не скале, а на более твердых, но все равно глинистых и суглинковых основаниях, ибо скальных оснований на доступных глубинах нет.
В общем, Крымский мост может, в принципе, опираться на что угодно. Это зависит от нагрузки на сваю, ее материала, технологии и диаметра, глубины погружения сваи, конструкции куста свай и ростверка, и многих других факторов. Сваям совершенно необязательно опираться на твердый слой грунта, в каких–то случаях применяются и так называемые висячие сваи, передающие нагрузку на грунт значительной частью свой длины. Всё это решается расчетом, под конкретные нагрузки на фундамент и под конкретные грунты, и всё это невозможно критиковать, не видя изысканий, нагрузок на фундамент, конструкции фундамента и расчета. И все эти данные недоступны Беленсону, но он критикует, ибо ему так видится.
3.4. При строительстве насыпей железной дороги на подходах к мосту сделался скандал с изысканиями. Строители (пресловутый Ротенберг) заявили, что изыскания, признавшие пригодными местные грунты, являются неверными, грунты для насыпей не годятся, надо возить другие грунты издалека, а Ротенбергу надо дать еще 3 млрд рублей. По сути о деле судить невозможно, так как судебным решениям в пользу Ротенберга в нашей стране никто не верит. По интуиции, дело темное. Если бы я решил фальсифицировал изыскания, то я однозначно фальсифицировал бы их в сторону того, что грунты слабые–преслабые. Во–первых, никто не будет возражать, если казенный объект подорожает. Во–вторых, не придется отвечать, если что упадет. А тут, получается, изыскания фальсифицированы в ту сторону, что грунты очень хорошие. Странно как–то.
Но главное, нет никаких сведений о том, что та же фирма выполняла изыскания под сам мост. Это не более чем очередное озарение Беленсона. И наконец, если мы поверим, что изыскания карьерных грунтов под насыпь были плохими, мы должны заметить, что эту ошибку сразу же выявили. То же произошло бы и с фальшивыми изысканиями под сам мост – строители довольно хорошо чувствуют, по скорости вибропогружения и по отклику на удар молота, через какие грунтовые слои идет свая. Если сваю начали забивать и она явно не дошла до несущего слоя, то работы останавливают, делают повторную скважину, и по результатом новых изысканий решают, что делать – забить эту сваю глубже, увеличить количество свай, поменять тип фундамента. Надо понимать, что слои основания лежат не идеально ровно, любые изыскания дают немного упрощенную картину, и на реальной стройке какие–то сваи не доходят до несущего слоя достаточно часто, так что описанные выше процедуры не являются экзотикой. В общем, трудно придумать занятие глупее, чем фальсифицировать изыскания под особо ответственный мост. Единственное, что утешает — Беленсону не известно фактов фальсификации изысканий, это просто его очередная фантазия.