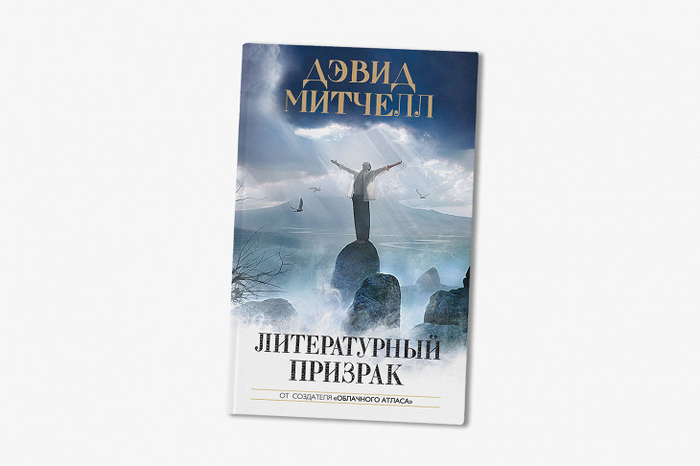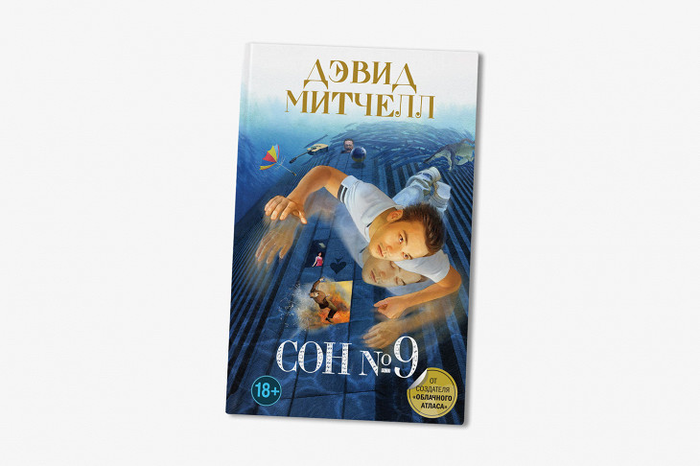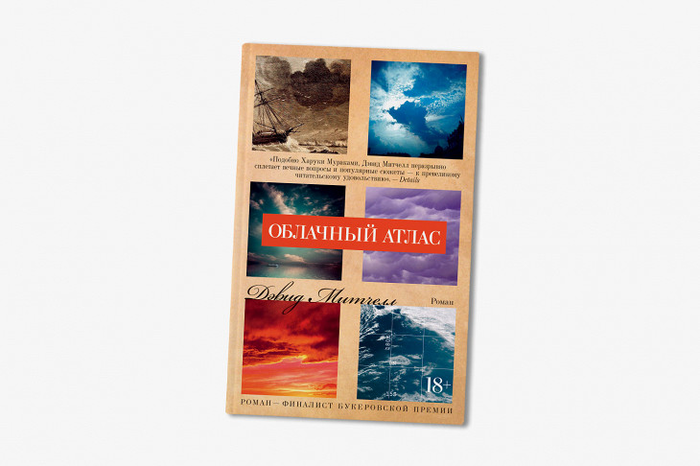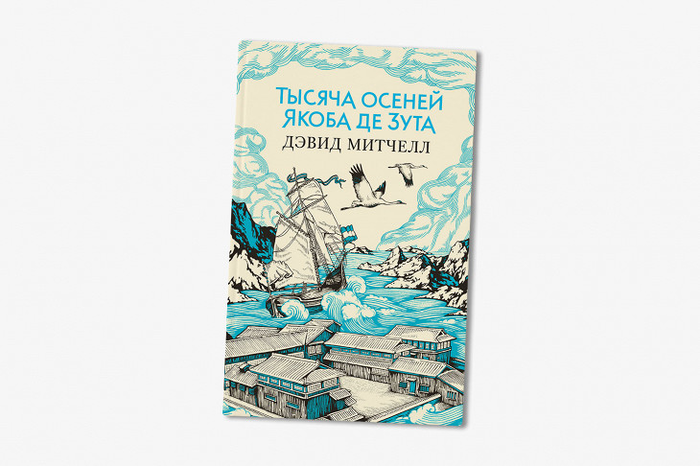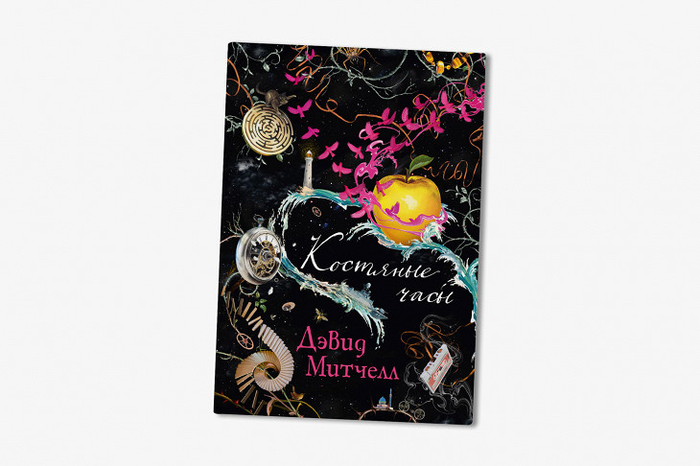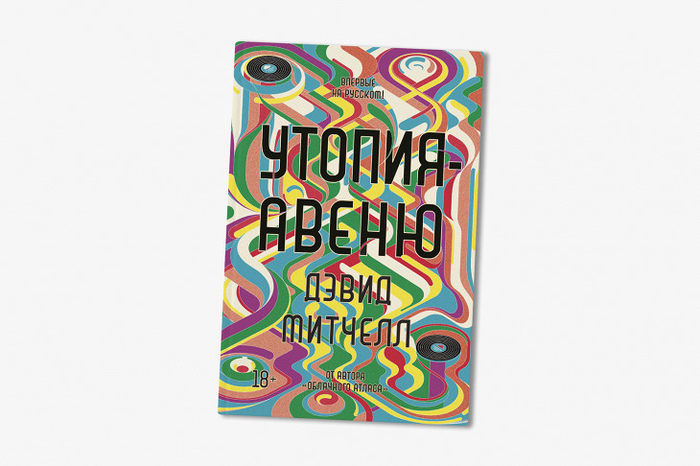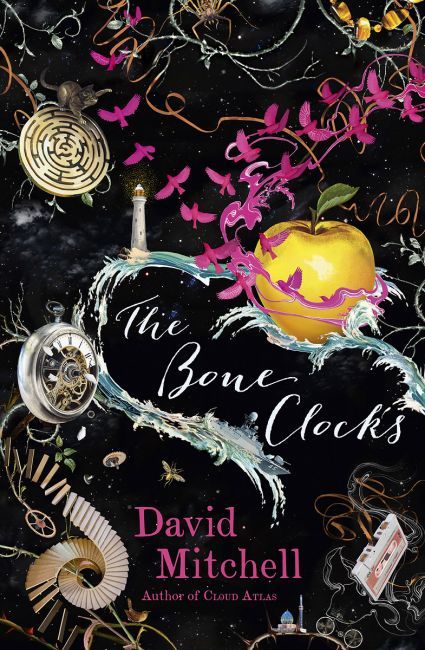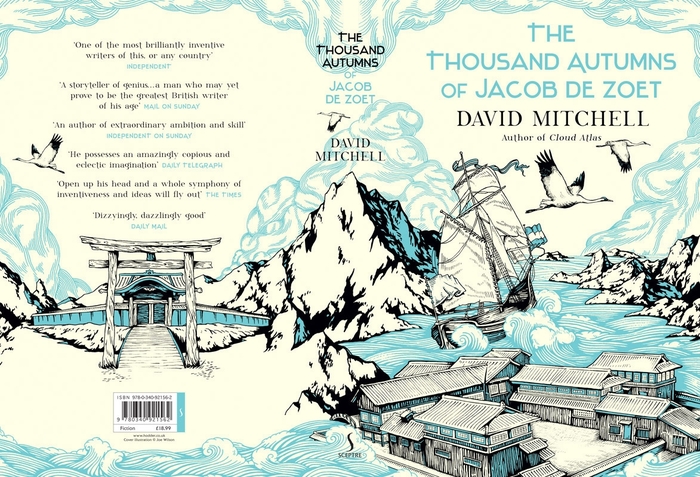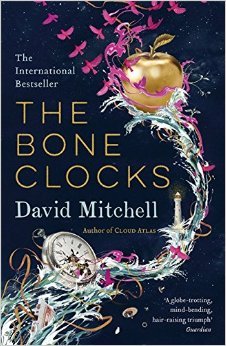Гайд по романам Дэвида Митчелла
По случаю выхода в России нового романа Дэвида Митчелла «Утопия-авеню» нарвался на гид по митчелловским романам от переводчика Алексея Поляринова.
Первый роман Дэвид Митчелл сочинил во время путешествия по транссибирской магистрали. Ему было под тридцать, он был женат и успел уже восемь лет прожить в Японии, где, работая учителем английского языка, пытался писать прозу.
Любой писатель, кого ни спросите, скажет вам, что дебютный роман — опыт особенный, потому что, работая над первой книгой, ты как бы делаешь два дела одновременно: пишешь и учишься писать. Молодой, неопытный автор всегда берется за книгу с мыслью, что второго шанса не будет, что это его лебединая песня, поэтому надо выложиться по полной и впихнуть в рукопись все, что плохо лежит, все сюжеты, все мысли, все отсылки и весь свой жизненный опыт.
«Литературный призрак» (1999)
Это сборник из девяти новелл с таким диапазоном тем, времен, городов и героев, что хватило бы на девять романов, но жадный Митчелл пытается утрамбовать их все под одной обложкой — и самое поразительное, конечно, в том, что в основном это ему удается: тут вам и история о секте «Аум синрике» (террористическое сообщество, запрещенное в РФ. — Прим. ред.) и теракте в токийском метро, а еще рассказ о гонконгском юристе, который живет под одной крышей с призраком, а еще — последние сто лет истории Китая глазами необразованной хозяйки чайного магазина на Святой горе, а еще монолог духа, который путешествует по Монголии, переселяясь из одного человека в другого и копаясь в их памяти, а еще — криминальная история о сотруднице Эрмитажа, которая замышляет украсть из музея картину Делакруа… и так далее, и так далее.
«Сон номер девять» (2001)
Спустя два года вдохновленный успехом писатель выпустил новый роман. Если совсем грубо, он взял все то, что так понравилось читателям в «Литературном призраке», и умножил на девять: много Японии, хитроумный, замысловатый монтаж, куча крутых, но необязательных вставных новелл и сказок и декорации пестрые настолько, что могут вызвать эпилептический припадок. Роман выглядит так, словно Митчелл ограбил видеосалон 90-х и затем вручную смонтировал суперкат сцен из своих любимых боевиков и аниме. Тут все в кучу: хакер, взламывающий сервера Пентагона, якудза, похищения людей, видеоигры, бомбы, заложенные под небоскребы, взрывы, погони, близнецы, наркоманы, близнецы-наркоманы, галлюцинации, странные совпадения, притчи, призраки и целый вагон отсылок к классике киберпанка.
«Сон номер девять» — не лучший роман Митчелла. Возможно, худший (тут хочется добавить: всем бы такой худший роман), но тем не менее очень важный для понимания эволюции его стиля.
«Облачный атлас» (2004)
у меня была идея написать роман, в котором каждая история, прервавшись на середине, затем возвращается и завершается — только в обратном порядке.
То, что в «Литературном призраке» выглядело просто приемом ради приема — идея переселения душ, внутренних рифм, аллюзий и скачков между новеллами, — в «Облачном атласе» обрело смысл и стройность. Перед нами снова литературное упражнение, ревизия жанров: исторический роман, эпистолярный, технотриллер, плутовской роман, антиутопия и постапокалипсис, но в этот раз в отличие от первого романа композиция полностью оправдывает и выводит историю на новый уровень.
«Под знаком черного лебедя» (2008)
Ключевая тема романа — взросление на фоне катастроф. Глазами ребенка мы наблюдаем за распадом семьи. Главный герой, Джейсон Тейлор, случайно узнает, что отец изменяет матери. Не в силах повлиять на ситуацию, герой с тихим отчаянием наблюдает за тем, как родители отравляют друг другу жизнь. Под пером Митчелла даже этот избитый сюжет выглядит необычно. Дело в том, что распад семьи — это не единственная и не главная проблема героя. Джейсон — заика, и самый большой страх для него — видеть глаза людей, их отвращение и их сочувствие, когда он начинает заикаться. Мальчик умен не по годам, ему есть что сказать, он знает ответы на все вопросы учителей в классе, но молчит, не тянет руку: когда ты заика, в классе лучше помалкивать.
«Тысяча осеней Якоба де Зута» (2010)
Представьте, что вы, скажем, открыли новый роман Виктора Пелевина и вместо обычных его буддистских прогонов, каламбуров и шуток читаете настоящий, без дураков, исторический роман о Японии XVIII века. Вы ждете подвоха: ну, разумеется, это постмодерн, стилизация, это все как бы в кавычках, да-да, мы поняли, автор подмигивает, сейчас начнется деконструкция, метаигра, цитаты или что‑нибудь в этом роде. Но нет, вы читаете до конца, и ничего такого не происходит, роман остается собой до самой финальной строки; в нем есть история любви — и это настоящая любовь, без всяких цитат и кавычек; в нем есть история о добром малом, бухгалтере Якобе де Зуте, который отправляется на остров Дэдзима, чтобы заработать денег, и остается добрым малым, ничто не может растлить его или поколебать его убеждений, заставить назвать черное белым.
«Костяные часы» (2014)
Большой, размашистый, амбициозный и, наверно, самый неудачный роман британца.
В «Костяных часах» Митчелл попытался провернуть нечто подобное тому, что уже делал в «Облачном атласе»: 6 глав, 6 рассказчиков, 6 связанных между собой историй, скругленная композиция, и снова ревизия жанров, только в этот раз фантастических — истории о вампирах, астральных измерениях, сверхъестественных силах и проч.
В центре коллизии два тайных общества Бессмертных. Они могут манипулировать людьми, вселяться в них и перематывать их память, словно VHS-кассету, вырезая фрагменты воспоминаний, как кинопленку, или, наоборот, вклеивая фальшивые фрагменты. Общества, само собой, враждуют. Одни (плохие парни) используют одаренных детей, как батарейки, чтобы продлить свою жизнь, другие (хорошие парни) пытаются им помешать. И одна из главных проблем романа в том, что причину вражды толком не могут объяснить даже сами герои, всякий раз в моменты экспозиционных диалогов ссылаясь на некий «Замысел» (без шуток, в оригинале: «Script», что также можно перевести как «сценарий»).
На уровне языка роман прекрасен. Это, конечно, не новость — Митчелл всегда был превосходным рассказчиком. Проблема в другом: все предыдущие романы Митчелла не только эксплуатировали жанры, но и переосмысляли их, в «Костяных часах» ничего подобного нет
«Голодный дом» (2015)
В 1979 году мальчик по имени Натан Бишоп переступает порог дома на Голодной улице; мать привела его познакомиться с учительницей музыки. С тех пор о них никто ничего не слышал; пропали без вести.
В 1988 году детектив Гордон Эдмондс приехал в тот же переулок, чтобы расследовать дело о таинственном исчезновении Бишопов, и тоже пропал.
В 1997 году группа студентов — охотников за паранормальным появляется в переулке… и так далее, пять раз подряд с интервалами в девять лет (любимое число автора).
В отличие от плохих хоррор-писателей, у которых сверхъестественные злые силы сверхъестественны и злы просто потому, что так решил автор, Митчелл знает, что у сверхъестественного мира должны быть свои четкие внутренние правила. Каждая следующая новелла «Голодного дома» не просто повторяет троп о доме с призраками, но и расширяет наши представления о возможностях живущих в доме существ и о возможностях жанра хоррор.
Каждый рассказ здесь — история о столкновении жертвы и палача; следить за тем, как чудовища заманивают людей в ловушку, гоняют их по лабиринтам и всячески играют с ними, как кошки с мышами, — та еще жуть.
«Я источаю то, что вы называете временем» (2016)
В 2014 году шотландская художница Кэти Патерсон запустила проект «Библиотека будущего». Суть такая: самые популярные писатели нашего времени пишут роман или повесть, а затем отдают единственный экземпляр рукописи на хранение в специальную «тихую комнату» в публичной библиотеке Осло. Все рукописи лежат под стеклом, вы можете увидеть стопку листов, но не можете их прочесть.
Что, если высадить дерево и закрепить за ним один конкретный текст, чтобы мы точно знали: через сто лет именно это дерево превратится именно в эту книгу. Звучит поэтично, поэтому ничего удивительного, что в проекте уже приняли участие несколько больших писателей, в том числе Митчелл, который, если верить сайту, написал 90-страничную повесть под названием «Я источаю то, что вы называете временем».
В одном из интервью писатель признался, что хотел воспроизвести ощущение — «когда ты опускаешь иглу на пластинку и слушаешь альбом». Это сразу задало тексту жесткую и ясную структуру: у романа как бы две стороны, каждая глава названа в честь песни и рассказывает историю ее создания.
В основе книги жизнь четырех участников одноименной группы с момента ее основания и до момента триумфа на рок-фестивале. Сюжета как такового в романе нет, мы просто наблюдаем за жизнью четырех талантливых людей и их продюсера, за их работой, отношениями, изменами, личными драмами. И тут Митчелл, кажется, снова ухватил дух времени, потому что роман «Утопия-авеню» ощущается не романом, а скорее текстовой версией драмеди-сериала на «Нетфликсе». Даже герои специально подобраны так, чтобы контрастами производить максимальное количество комичных и неловких ситуаций: Эльф Холлоуэй — клавишница с хорошим образованием и из хорошей семьи, Питер Гриффин — гопник-барабанщик из рабочего городка, Джаспер де Зут — гитарист-виртуоз, молчаливый, аутичный гений, в детстве переживший лечение в психиатрической больнице, и Дин Мосс — басист, хиппи, шутник и балагур с отцом-алкоголиком в анамнезе, вылитый Чендлер из «Друзей».
Увы, вместе с плюсами сериального формата «Утопия-авеню» унаследовала и минусы. Сценарист Алекс Эпштейн в своей книге «Crafty TV Writing» объясняет разницу между полнометражным фильмом и сериалом так: конфликт фильма всегда строится вокруг ключевого события, на которое герой вынужден реагировать и после которого он уже не будет прежним, сериал же работает ровно наоборот — он только делает вид, что герой столкнулся с неразрешимой преградой, но в конце каждой серии (или сезона) даже самые высокие ставки, как правило, обнуляются, ведь если герой преодолеет свой главный страх или переживет ключевое жизненное событие, то продолжать его историю будет невозможно; поэтому сериалы чаще всего занимаются имитацией катастроф и в конце каждой серии или сезона дают зрителю намек на то, что герои изменились — но лишь чуть-чуть, самую капельку, чтобы был повод включить следующую серию (или сезон) и узнать, что же там дальше. Фильмы — про изменение статуса-кво, сериалы — про его сохранение. Именно такое впечатление производит «Утопия-авеню»: каждый конфликт — гибель брата, смерть младенца в колыбели, тюрьма — выглядит серьезным испытанием, тянущим на отдельный роман, и, по идее, должен бы сломать, перепахать героев, но этого не происходит; внутри «Утопии-авеню» все драмы разрешаются по-ситкомовски быстро, в течение 20 страниц.
Например, в одной из глав продажный коп подбрасывает Дину Моссу наркотики, а потом издевается над ним в тюрьме. Казалось бы, довольно мрачный и тревожный поворот, но нет: поклонники и пресса устраивают массированную информационную кампанию по освобождению Дина, в итоге его просто отпускают, и катастрофа оборачивается небывалой маркетинговой удачей — история о тюремном заключении басиста делает группу еще популярней! Чисто ситкомовский ход — имитация катастрофы, никаких последствий.