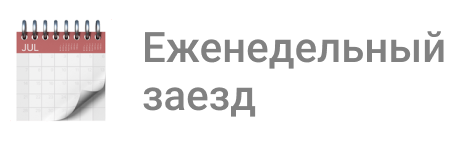Ягинша
Я вошёл в хату. Кривую, покосившуюся от времени, с прогнившими балками и проросшим мхом. Снаружи хата напоминала гору, что скрылась за растительностью густого, древнего леса. Только треснутые брёвна дуба выдавали в ней чьё-то жильё, пусть, казалось давно забытое и покинутое. Я сжал кулаки и сделал шаг вперёд, навстречу неведомому. Диковинный страх осязал меня, заставляя пальцы сжиматься до посинения. И хотел я было креститься, по всей нашей вере, и за защитою отца нашего, Господа. Да только перед глазами появилась покойница. И руки мои словно связала кнутом, не давая перстам совершить движение.
Она лежала в дальнем углу. С темно-синими пятнами, покрывающими обвисшую, посеревшую, местами истлевшую, кожу. С седыми волосами, вьющимися клочьями. Её равнодушное лицо, чуть приподнятые уголки губ, напоминающие блаженную улыбку, оставались неподвижными. Глаза были прикрыты тяжелыми, грузными от старости лет, веками. Под головой покойницы лежала подушка, набитая сухой листвой берёзовых веников. Тело покрывала пожелтевшая, старая рубаха. Внутри хата была пуста. Кроме давно не беленной печи, колченогой лавки - лежанки, хромых стола и стула ничего не было. Казалось, полумрак поселился здесь вместе с прелым, тяжелым воздухом. Я хотел было уже выйти наружу, свернуть с перекрестка дорог, да кинуться со всех ног обратно, в нашу деревеньку. Совесть не позволила. Сердце защемило, только лишь маленькое личико Васьки вспомнил. И тогда я к самой покойнице подошел, да сделал, что велено было бабкой моей. «Не встретишь ты рассвета, да не умоешься талой водой. Никто сам с тобой пойти не захочет и в последний путь не сопроводит». Я поставил рядом кувшин с водой, наготовил тряпок для омовения, что принес с собой. Первые лучи солнца прорвались сквозь густые ветви дубов, через дырявую крышу, падая на обезображенное лицо покойницы. Намочив тряпку, преодолевая подступивший комок к горлу, я принялся за омовение. Сначала осторожно протёр лицо, стараясь пальцами не прикасаться к истлевшей коже. Спустился к морщинистой шее. Настал черёд серых рук, почерневших, высохших пальцев, с длинными, толстыми ногтями. Я спустился ниже, к ногам. И тут меня заколотило что есть мочи. Руки ополоснула зябь, перекидываясь на мелкую дрожь. И я чуть было не перевернул кувшин с талой водой, да еле смог его поймать. Вместо правой ноги у покойницы был уродливый костный нарост, покрытый остатками истлевшей плоти, что висела на лохмотьях сухих, пожухлых мышц. Превозмогая тошноту, я брезгливо омыл и то, что раньше было ногой. И как только кончики пальцев на второй, хоть и не совсем целёхонькой от времени, ноге были омыты, веки покойницы дрогнули и медленно поднялись. Её лицо исказилось в гримасе отвращения и злобы. Она подскочила, неестественно быстро, перевернув кувшин с водой на прогнившие доски пола. Там, лежа на своей тахте, она казалась лишь холодной и мертвой частью своего затхлого склепа. Теперь же от неё исходила мощь и нечеловеческая сила. Она стояла во весь рост, опираясь головой чуть ли не о сам потолок избы. Казалось, старуха мгновенно увеличилась в своих размерах, став выше и шире. Покойница медленно открыла рот, усеянный пеньками гнилых зубов. Она издала хриплый вой, а из её рта столбом вылетела густая струя вековой пыли. Она протянула руку и в ней оказалась ступа, всё это время стоявшая где-то в тёмном углу. Её сухенькая, хилая рука наполнилась жизнью.
Покойница за секунды набиралась силы. Больше она не походила на неживую. Теперь уже передо мной стояло существо, только внешне напоминающее старуху, от которого исходила природная мощь невиданной силы и вековая мудрость пережитых жизней. Затем, она открыла рот и низким, сиплым голосом произнесла:
– Слышу запах я знакомый. Коли мёртвый? Коли испеченный?
– Вы, бабушка, ошибаетесь. Я с Вами не знаком. Но вот пришёл к Вам по делу. И даров принёс! –
Я принялся осыпать её всем тем, что успел набрать в своей деревеньке. Молоко, пироги, яблоки, мёд, ткани. Не жалел никаких гостинцев и выкладывал всё у её ног. Она лишь брезгливо перешагнула мои дары, да подошла ко мне ближе, пошаркивая своей костяной ногой. Её ноздри расширились, принюхиваясь ко мне.
– Ночь ушла, глотая звезды. Луч упал на тени, сосны. Ты омыл старуху талой. Вытащил из сна… поганый! Что желаешь ты, ответь? Хочешь сгинуть? Помереть? А коль ты пришел проситься, должен ты сперва напиться. Сядь за стол, отведай яств. А потом узнай наказ.
Старуха стукнула своей ступой по полу, щепки полетели в стороны. Стол, стоявший совершенно пустым, преобразился. На нём стояли шикарные блюда с самыми разными яствами. Хромой стол ломился от горячих, ароматных блинов. Золотые тарелки усеялись красными, спелыми яблочками. Доверху, до самого потолка, казалось, выложены были пироги с капустой и творогом. Вино уже было разлито по стаканам. Она усадила меня за стол, и я принялся почивать. Но красота блюд оказалась совсем ложной. Вино было кислым, пироги сухими. Яблоки оказались червивыми, а блины с земляным привкусом. Старуха стояла позади, чуть склонившись смотрела на меня. Не подавая виду, из боязни обидеть хозяйку, я продолжал почивать. Она всё подкладывала в мою тарелку блюда, пропахнувшие землей, а я всё ел и ел. Наконец, когда почивать было больше нечем, старуха отошла в сторону.
– Коль наелся, не обидел, а уважил мой обитель, так и быть тебя прощу. И с дарами отпущу. Если хочешь быть богат, дай мизинец и будь лад. Если хочешь ты жену, я годами заберу. Коли хочется здоровья, – кур для лис моих застолье…
И казалось, старуха могла ещё долго перечислять свои дары, да посмел я всё же вмешаться в её долгие предложения.
– Бабушка, миленькая, мне совсем не надо ни жены, ни богатств. Жена есть. Любима мной и другой такой не сыскать. И богатств нам не надо. От золота люди гаснут и млеют. Но со здоровьем ты не ошиблась. Но не для меня, миленькая бабушка. Для сына моего, для Васеньки. Родился он слабым, болезненным. С каждым днём чахнет, сохнет. Злой дух его крутит - вертит, погубить хочет. С собою под землю заволочь. Не переживет он зимы. Три дня я думал, а жена молилась. Заговоры заговаривали, молоком отпаивали. А он и вовсе есть перестал. И тогда бабка моя меня к Вам и отправила. Сказала только у Вас спасения теперь и искать. Что нужно вынести ради Васьки моего – всё вынесу! Любые испытания пройти, ничего не страшно. Только сына моего спасите. Готов и мизинец, и кур. И годы отдать готов. Берите.
Старуха глядела кротким прищуром. Она обошла меня со всех сторон, так же ковыляя, оставляя скрежет своей костяной ногой. Ноздри её плясали, то и дело расширяясь и сужаясь. Воздух становился всё гуще и мне, казалось, уже вовсе невыносимым было находиться там, в избе. Она разбивала воздух своей ступой, махая ей и бормоча что-то низким, нечеловеческим голосом. Наконец, на деревянных половицах, давно уже поросших мхом, бисером с потолка осыпалась кроваво-красная костяника. И в тот же час полезли из неё черви, да жуки. Старуха опустила ступу, присела на свой стул и с будто бы сожалением оглядела меня. Она снова поднялась, подошла ближе и протянула свою бледную, но могучую руку.
– Где-то глухо, где-то звонко. Где-то худо, где-то полно. Что-то лживо, что-то гордо, что-то живо, что-то мёртво… Где-то день, а где-то ночь. Где-то сын, а где-то дочь. Что за жизнь готов отдать? Жизнь за жизнь могу я взять.
Я потянул свою руку в ответ и прикоснулся к её холодной, серой, жилистой руке. Вторая рука, державшая ступу, была человечнее. Эта же, взявшая меня, снова напомнила мне, что старуха никто иной как мертвец. Она повела меня за собой, и я, неропщущий, со всей только тоской, что может быть у отца и мужа, никогда более не повидавших своих любимых, пошёл за ней. Мы шли по густому туману сквозь лишайники, старые пни, сквозь прогнившие дуплистые дубы и мохнатые кожистые кроны. Мы шли дальше, всё отдаляясь от избы, в самую глубь, чащу леса. Впереди был длинный, дощатый мост. Под ним была лишь чернота, бесконечно глубокая и холодная. Мы переправлялись через него.
Под ногами шла истоптанная тропа, усеянная разнообразными следами. Вот след лисицы, ведущий куда-то вдаль, следы коней, волчьи следы. Но более всего следов было человеческих. И что меня напугало, поразило мою душу печалью… Увидел я следы маленьких, детских ножек. Старуха вела меня молча, и мы продолжали наш путь. Она ступала уверенными, хоть и осторожными шагами. И рука её всё теплела, пока я не заметил, как передо мной уже шла не старуха, а молодая и прекрасная женщина. Серебро её волос стало густым каштаном, а морщинистые руки обернулись молодой и белой кожей. Былая кость вместо ноги приобрела плоть. Тело её покрывала теперь уже не пожелтевшая рубаха, а платье зеленого леса с золотым отливом. Она повернулась оглядеться на меня, мое лицо, и я залюбовался её красотой. Какой живой она стала. И маленькие светлячки – фонарики всё кружили над нами, маня всё дальше и дальше, вперёд по тропе. Я держал руку молодой женщины и чувствовал её величие и силу. И каждый наш шаг мне давался всё тяжелее, когда казалось, ей наоборот, шаги давались невесомее и скорее. Маленькие огоньки всё плыли за нами, минуя черные как ночь озера, гладкие опушки, острые хребты лесов, сквозь которые прорывалась тропа. Я видел тени существ, что никогда ранее не встречал. Чёрные, рогатые, величественные, малые. Столько дива разношерстного повидал, что любой человек в здравом уме назовет мороком или лихом. Но огоньки, не боясь, следовали за нами. И наконец, я решился обратиться к той, что вела меня за собой.
– Что за огоньки дивные нас догоняют, всё следую по пятам?
– Духи бессмертные, пра и отцы. С Нави глядят на глухие дубы. Ждут череда возвратиться к вам вновь. Плоть обрести. Обрести хотят кровь.
Один из них, новенький, все следовал за нами, то и дело летая вокруг, кружа надо мной. Я почувствовал, как легко мне рядом с ним, как силы наполняют моё тело. Я знал, этот огонек – дух мамы. Мучаясь родами, она слегла в сыру землю давным-давно и я её никогда не видал. Хотелось мне было остановиться, оглядеть своих предков, выразить им благодать от всего своего рода, попросив защиты и помощи. Но та, что вела меня, не давала, сжимая руку сильнее. Она лишь кратко произнесла:
– Остановка в Нави смерть. В третьем мире нет потех. Ты живой еще, учти. Дух бесплотен. Плотен ты.
И в момент мне стало горько, что предки, родичи мои, на меня смотрят, а я не могу их уважить, поклониться. Но посветлело на душе, ведь я еще среди них не был. И тело мое, что плохо слушалось здесь, всё еще было при мне. Не стал я бесплотными духом, огоньком, ярким светом. Не бродил по Нави, в ожидании воплощения. А только шёл по тропе, доверяясь то ли старухе, то ли молодой женщине.
Сколько мы шли – мне неведомо. Позже, вернувшись домой, моя жена расскажет, что отсутствовал я семь дней. Но наши скитания не измерялись временем. Кому-то могло показаться, что мы шли час. А кому-то, что и вовсе – год. Время в Нави шло иначе, хоть и несомненно, оно было связано и с нашей Явью. Мы всё шли, пока не наткнулись на густой туман. Тот самый туман, что привёл нас в мир морока и забвения. Войдя в него, мы вернулись обратно, в ту глухую избу, стоявшую на перекрестке двух дорог. Теперь уже и она преобразилась вместе со своей хозяйкой. Вместо мха, проросшего по всему полу, трухлявых досок, сырости и пыли, изба наполнилась теплом и уютом. Печь, затопленная камышом, тихонько потрескивала. Вся комната, усеянная свечами, заливалась янтарным светом. На столе стоял кувшин с молоком, а рядом, россыпью лежала кроваво-красная костяника. Молодая женщина снова взяла меня за руку, а затем наказала, стукнув ступой:
– Солнце скроется тот час, в полночь выполни наказ. Возвращайся в деревеньку, сына вынь из колыбельки. Принеси дитя ты мне, да не говори жене. Если спросит – ты молчи. И про Навь не говори. Коль ослушаешься наказ, то язык отсохнет в раз. Тайны ты теперь хранитель, да своего дитя спаситель. Жаль судьбою обделенный… Ну беги, беги холеный! Новость будет. Ты держись. Все равно поторопись.
И я помчался сквозь густой лес, цепляясь за лишайники. Вдоль дубов и елей, речушек и степи. Когда вернулся, постучался в хату, жена никак не верила тому, что представилось её глазам. Серебро покрывало мою голову, пробиваясь сединой через чернявые волосы. По коже рассыпались борозды и складки, а взгляд выдавал во мне усталого старика. Жена плакала и кричала, то и делая ругая, а затем жалея. Она прижалась своей щекой к моей груди и изложила, что не было меня всего семь дней. И что за семь дней произошло горе. Поведала о том, как сердце бабки не выдержало моего ухода. Как слегла она, а на третий день схоронили её в сырой земле. Как просила она прощение за то, что отправила меня в «морок». Как на отрез отказалась отвечать, что за такой «морок» и где он находится. И тогда вспомнил я о огоньке, что появился из ниоткуда. Вспомнил как он летал ближе всех, словно не желая расставаться. И как почудилось мне, что это была мать. Горе тронуло сердце, хоть и стыд не давал мне отгоревать. Хотелось мне самому теперь слечь, как немощному старику, что больше не в силах ничего сотворить, кроме как помереть. Да только наказ старухи, что обратилась в сладкоголосую красу, я не забывал. И все расспросы жены пресёк на корню. Велел ей ни о чем таком не спрашивать, да помалкивать и спать лечь, если она хочет нашему Ваське жизнь спасти. На том мы с ней и сошлись.
Когда пришло время, из колыбельки я достал маленький комок, что не в силах был вскрикнуть. Лишь тихое, редкое попискивание выдавало в нём что-то живое. Васька таял на глазах. Ещё перед моим уходом он казался здоровее и крепче. Теперь его бледно – прозрачная кожа покрывала худое, костлявое тельце. Сын не ел уже два дня. Он умирал у меня на руках. Я спешно обмотал его лисьим воротом и ветром помчался к той, что была покойницей и старухой. К той, что оборачивалась молодой женщиной в лесных одеяниях. К той, что могла ходить по мирам сквозь туман. К великой, могучей. К той, что обещала спасти, забрав жизнь за жизнь…
Я, с сыном на руках, перешагнул порог избы. И сразу мне стало легко. Где-то в душе поселился покой и вера, что всё теперь для нас закончится благополучно. Та, что меняла облик, топила печь, подбрасывая в неё толстые ветви сухого камыша. Она заваривала ароматные травы, шепча и заговаривая варево. В хате стоял запах шалфея и клюквы. Имя её теперь не вспоминалось в деревенской болтовне, давно оно было забыто. И я, к своему стыду, его не знал. Не уважил покойницу, не обратился по имени. И тогда сама она развернулась ко мне, ломая камыш через колено, будто бы услышав мои думы, ответила мне:
– Волхвов заклинают, крутят, обжигают. Камнями кидают, ворожеи мрут. От людского рода увела дорога, и дорожку эту надо похоронить. Имя мое грозно, недругам несносно. Я Ягинша – княже. Мира там и тут. И стою я гордо, меж миров покорно. Я хозяйка леса, страж в Калинов мост.
С этими словами Ягинша достала лопату и аккуратно взяла с моих рук Ваську. Он скорчился, не в силах издать и звука. Она капнула ему на губы отвар из трав и спешно отправила на лопату, а затем сунула прямо в печь. Васька закричал. Ягинша гремела и выла, обращаясь к «сухотке», но ни одно слово я так и не смог уловить. Из печи лезла чернь. Она яростным ветром билась о стены, не находя себе выхода, пока старуха, обращенная в деву, сама её не проглотила. Наконец, Ягинша вынула Ваську из печи. Он порозовел и увеличился в размерах, хоть и оставался еще слабым и хилым. Ягинша же наоборот, осунулась и прибавила в годах. Она повторила обряд ещё раз, а затем ещё. И каждый раз эта чернь всё лезла и лезла, а затем проглатывалась Ягиншей. На третий раз, вынув Ваську, я увидел упитанное и крепкое дитя. Он звонко плакал, а дряхлая, снова походившая на мертвеца, Ягинша, капала ему на губы своего отвара. Я взял сына на руки, любуясь крепким дитём. С радости, я готов был отдать всё старухе, да вспомнил договор.
– Жизнь за жизнь. Позволь, Ягинша, мне только сына обратно домой вернуть. Я сразу же вернусь.
Старуха, с дряблой, провисшей кожей под глазами, устало взглянула на меня. Она словно отряхнулась от сего мира, встала в полный, могучий свой рост и взяла ступу в омертвевшие, длинные черные пальцы. Она медленно двигалась к своей тахте, в то время как янтарный свет в её избе покидал это место. Он растворялся в воздухе, вместе с той жизнью, что была тут какое-то время и воздух снова наполнился тяжестью и смертью.
– Жизнь за жизнь. Уплачен долг… Лет твоих мне хватит в прок. Жизнь же отдана была. Матерь сына-ж сберегла. И тебя спекли, родной. В детстве был ты озорной. И сухотка прицепилась, мать тогда в труху разбилась... и ко мне явилась в ночь. «Помоги, мол, смерть отсрочь». Я годами прибрала. И тебе, родной, дала. Матерь бабкой кликал ты… а теперь всё, уходи. И дорог назад не жди. Я уйду обратно, в сон. Хватит помощи на том.
И в тот же миг, вместе с её словами, изба растворилась в густом, кожистом лесу. И я, с сыном на руках, оказался в чаще черного леса, на перекрестке двух дорог. Вместо той избы, скрытой за мхом и корой широких дубов, лежала лишь кроваво-красная костяника. Лунный свет освещал тропинку, усеянную алыми ягодами. И впереди нас летел маленький яркий фонарик. Светлячок. Мы шли домой.
*Автор: https://vk.com/spec.olga