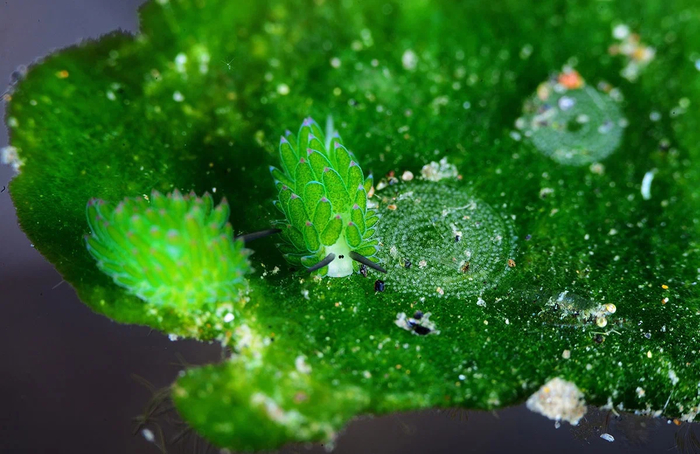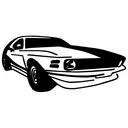…Мы видим на сцене бессмертного вампира.
Женщину, сумевшую пережить на этом свете всё. Всё, кроме одного. Своей славы. Голоса нет, молодости нет, любви нет, а слава — вот она.
Затянутый во фраки мужской гей-кордебалет держит огромный — метра на четыре — подол ее алого платья, вурдалачьего гигантского плаща-юбки. Ноги у Гурченко голые. Затянутые в чулки. Тяжелые накладные ресницы почти не поднимаются, так что глаз не видно (кажется, за год-два сама актриса была в больнице, что-то серьезное, но даже если и нет — Гурченко на этот момент ни много ни мало 75 лет.) На нее просто неловко смотреть. Гурченко во всем фильме сильно переигрывает. И ее коленки не распрямляются до конца.
И вот тут и возникает искусство.
— Пожалуйста, не умирай! — поет эта женщина-Дракула севшим голосом своему молодому возлюбленному, партнеру по ревю актеру Максиму Аверину. Аверин лысый. Но сильный и молодой. Она в парике, но слаба и сейчас как будто исчезнет.
Дракула же бессмертен. В этом и есть весь ужас вампирской любви. Всё рассыплется, уйдет, разожмутся живые горячие руки, сменятся режимы, распадутся государства, падут законы, закончится крысиная жизнь. Мы все умрем, а они нет.
И вот женщина-вампир, отлежавшая положенные 500 лет в своем гробу в дневное время, все-таки встретила однажды (прихоть усмехнувшейся судьбы) в сгустившейся ночи своего возлюбленного. Она не убила его. Не выпила его кровь. Полюбила.
Но тикают часы. И если для нее это просто докучный ничего не говорящий стук бессмысленного механизма, то для него это Время. Она переживет его. Он смертен, а для вампира смерти нет. Вампир уже умер. И поэтому бессмертен. Только солнечный свет, только крест, серебряная пуля, деревянный кол (что там еще?) могут его убить.
И вот она — в развевающейся четырехметровой юбке, на каблуках и не разгибающихся до конца ногах — поет ему песню своей последней любви.
— Хочешь, я убью соседей? — спрашивает она с грязной усмешкой. — Что мешают спать. Хочешь?
И мы понимаем, что она имеет в виду.
— Пожалуйста, не умирай, — продолжает твердить женщина-вампир, гигантская алая летучая мышь. — Или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже.
Конечно, не в рай. Она же вампир, она убийца, она сама ад. И это тоже произносится (мне даже трудно сказать «поется») с четким пониманием, как эти слова надо произносить, петь, скрипеть и нашептывать. Тоже с горькой свистящей самоиронией.
Мы знаем, как умирает человек. Как он уходит от нас, перестает дышать. Но мы также знаем кое-что еще. Мы знаем, что он умирает не до конца. Наука нам объяснила (жестокая, бестолковая наука, давшая нам столько ненужных в нашей человеческой жизни надежд), что атомы его — того, кого мы любили, гладили по спине, били по лицу, ласкали по волосам, — всё еще существуют.
Человек отдышал, кончился, окаменел, а атомы тут. И так будет всегда. И мы это понимаем. Но также мы понимаем, что хоть атомы его и не умерли вместе с ним, но они рассеются. Что их соединение в одно существо, которое ты знал и целовал, распалось и больше никогда не повторится.
Всё, что нам останется от него, — это его запах на шерстяном свитере, но и он скоро выветрится.
— Хочешь солнце вместо лампы?
Хочешь за окошком Альпы?
Хочешь, я отдам все песни,
Про тебя отдам все песни? А? — почти кричит женщина-вампир, обнимая стоящего перед ней на коленях человека, и вдруг отпускает его.
И он падает. Спиной назад.
Он падает долго, в рапиде, в замедленной съемке, на фоне расфокусированного сверкающего платья из тонкого шелка, на фоне мальчиков во фраках, в блеске юпитеров и софитов. Под ее сумасшедший смех.
Падает и замирает.
Всё кончено.
И тогда она начинает ползать по нему, как обезумевшая саранча, некрасиво, враскоряку, оседлав его верхом, почти как в сексе, пытаясь вернуть к жизни, растормошить его руки, влить в него новую кровь (она же столько ее выпила, этой крови, она может вернуть хоть часть, накормить его, как кукушонка, чужой, отрыгнутой из своей мертвой вампирской сердцевины кровью). Но он не будет пить эту отрыгнутую кровь. Он умер, его больше нет. А она жива. Надолго, навсегда. Если это, конечно, можно назвать жизнью.
И вот она затихает на нем, и длинные ленты ее подола-фрака-савана наконец опадают.
Она лежит на нем и что-то шепчет.
Что же она шепчет?
Ах да, точно!
Она шепчет: «Не умирай. Не умирай. Не умирай».
…Когда смолкает последняя нота песни и меняется кадр, ты понимаешь, что ты весь в мурашках. От ужаса, восхищения и тоски.
Потому что это песня про нас.
Про то, что вы хотели знать о любви. Но почему-то боялись спросить.
14 февраля 2011 года Л. Гурченко поскользнулась у своего дома и сломала бедро.
Была госпитализирована, на следующий день ей была сделана хирургическая операция, выписана 6 или 7 марта.
30 марта состояние актрисы ухудшилось, что было вызвано тромбоэмболией лёгочной артерии (сердечная недостаточность).
Прибывшая через 21 минуту бригада «скорой помощи» не смогла её реанимировать, и 30 марта 2011 года была зафиксирована смерть актрисы.