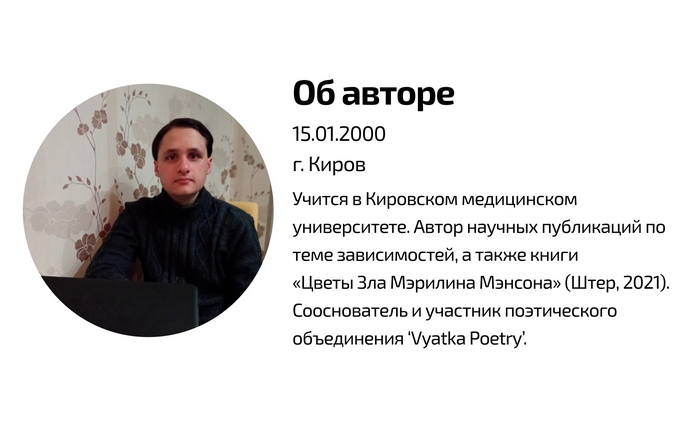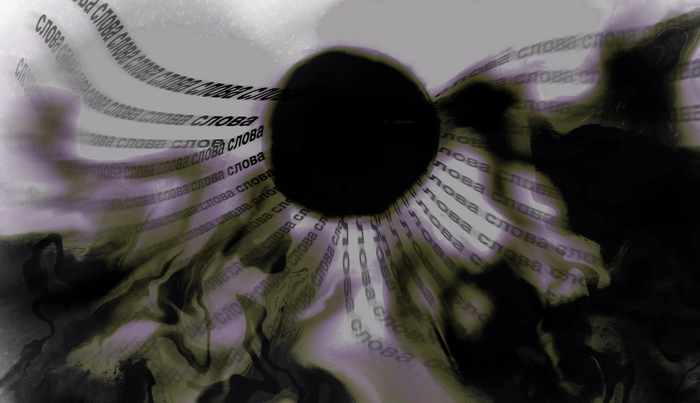Жизнь продолжается | Тамерлан Каретин
Он лежал в гробу совершенно на себя не похожий. Я вглядывался в его лицо и не мог найти ни одной знакомой черты. В один момент мне просто хотелось сказать:
— Остановитесь, что вы все делаете? Это же смешно… Это не он.
Казалось, что всё это просто-напросто чья-то плохая шутка, а он сейчас стоит за дверью и смеётся. В какой-то момент ему это надоест, и он выйдет к нам. Медленно откроет дверь, заглянет внутрь и широко улыбнётся. Его золотой зуб ярко блеснёт на весь зал, ослепит присутствующих, и всё будет как прежде. Но дверь не открывалась, и войти никто не пытался. Время тянулось раздражающе медленно. Люди ходили вокруг открытого гроба с серьёзными и заплаканными лицами.
Да, на шутку это не похоже. Даже на очень плохую. И всё же я надеялся. Глупо, конечно…
Не без труда я решился. Подошёл поближе, вплотную, взялся двумя руками за край гроба и наклонился над телом, заглянув ему прямо в лицо.
— Ну вот же, вот, — подумал я. — Борода… Он ведь никогда не носил бороду. Он всегда был аккуратно и гладко выбрит, а тут такая борода. Длинная. Седая.
А ведь действительно, за свои тридцать с небольшим лет я ни разу не видел его небритым. Допустим, что она выросла за тот месяц, что мы не виделись. За последний месяц. Он ведь всё время лежал. Обессиленный. Поэтому и небритый. Зная его упёртый характер, я мог предположить, что он просто не дает никому себя брить.
— Поправлюсь, тогда и побреюсь сам, — эти слова были в его духе.
Да, характер у него был что надо. Его трудно было назвать дружелюбным. Слишком гордый для дружелюбности.
Ладно, хрен с ней, с бородой.
— Ну вот же, вот… — мой мозг схватился за очередную зацепку. — Шрам на лбу. Я никогда раньше не замечал у него на лбу такого шрама. Значит, это не он. За месяц шрамы не появляются и уж тем более не рубцуются.
Или он был там всегда, просто я его не замечал? А шрам просто затерялся среди множества морщин на лице. Утонул среди них и был скрыт от моего молодого и не самого внимательного взгляда. А может, всё гораздо проще — я просто никогда не рассматривал так близко и так подробно его лицо вблизи? Раньше это было не нужно. В этом не было необходимости. А теперь? Разве теперь это нужно?
Не знаю…
— Ничего, жизнь продолжается… — сказала мне сестра за полчаса до начала церемонии прощания, стоя на улице у входа в зал. Это да. Она всегда будет продолжаться. Не у тебя, так у другого. Она не остановится никогда. И ей совершенно всё равно на тебя, на твоих близких и любимых. Ей главное всё время продолжаться. Только куда и для кого она все время продолжается — непонятно. Другого чувства ты не испытаешь, кроме её вечного продолжения. Вряд ли настанет момент, когда ты осознаешь, что всё, она остановилась и больше не продолжается. Для тебя.
Но я сейчас здесь, стою в напряжении и непонятной опустошённости, держусь двумя руками за деревянный край гроба среди плачущих родственников и близких друзей и всеми силами стараюсь убедить себя в нереальности происходящего.
Хотя разум совершенно точно понимает и знает, что всё это обычный, каждодневный, естественный финал очередной жизни. К нему придёт каждый. Другого не дано. Или придёт, или приведут. Он будет именно такой и никакой иначе. Он один. Вот я на нём. На очередном окончании человеческой жизни.
Но ещё не своей.
Зачёсанная челка, он не носил такую причёску… при жизни.
Слишком стянутое лицо, даже большинство морщинок выглядели на нём разглаженными.
Чрезмерно впалые щёки, хотя это вполне могут быть последствия продолжительной болезни и работы патологоанатома. Вот если бы он открыл сейчас глаза и посмотрел на меня — по взгляду я бы понял сразу, и это несмотря на то, что в последнее время перед смертью он практически ничего не видел.
Его взгляд сразу бы расставил все точки над «и». Хотя, вероятно, в данной ситуации это было бы лишним. На правый глаз он ослеп уже много лет назад. Зрение левого стало ухудшаться в последние годы всё сильнее и сильнее. И нет ничего страшнее, как мне кажется, чем остаться одному в незрячей и непроглядной темноте. Он считал так же и, когда отечественная медицина после множества посещений различных кабинетов врачей и чиновников соблаговолила преподнести возможность попытаться улучшить зрение за счёт государства (оно ведь, как-никак, нас бережёт), этот шанс упускать не собирался.
Помню, я забирал его из больницы. Ему прооперировали единственный зрячий глаз, заклеили лейкопластырем, посоветовали не снимать повязку пару дней, вывели из здания на улицу слепого и посадили у входа на лавочку. Дожидаться того, кто его заберёт домой. Если такие вообще имеются. Ну а что вы хотели от отечественной бесплатной медицины? Она сурова, как и всё в нашей стране. Операция прошла успешно, будь добр — освободи койко-место другим таким же бесплатным пациентам. Нечего передерживать. Они и так уже толпятся в коридоре.
Хорошо хоть кто-то из пациентов помог ему позвонить. Набрал на телефоне мой номер и дал ему в руки трубку. Услышав этот уставший, но бодрый родной голос, я сбежал с работы и помчался ему навстречу.
Я увидел его издалека, он стоял у лавки, придерживая рукой сумку с вещами, и крутил головой из стороны в сторону. Я помахал рукой издалека, когда его голова повернулась прямо на меня.
«Он же не видит», — стрелой пронзила меня мысль, я неуверенно опустил руку и ускорил шаг, переходя дорогу и поражаясь одновременно своей тупости.
Я подошёл вплотную к нему и заулыбался, но ничего не изменилось, он не видел ни вдаль, ни вблизи. Тогда я ещё не знал, что одним глазом он уже давно не видит и это не исправить. Я знал его столько лет, а оказалось, что и не знал совсем. Шрам на лбу — это сущая мелочь по сравнению со всем остальным.
— Лёша, это ты? — сказал он в мою сторону и попытался изобразить на лице улыбку. Получилось искренне, но не весело, ибо она оказалось наполнена болью и страданием, которые он всегда старался держать в себе. Такой вот характер.
Да, я не знал ничего. И сейчас не знаю.
Мы сели в такси и поехали на вокзал. Там я всё время пытался взять его под руку, чтобы он шёл увереннее. Он отбрыкивался. Ему это не нравилось.
— Что ты меня ведёшь, как инвалида? Просто иди рядом, я вижу твой образ и буду идти следом.
И я шёл, медленно, постоянно останавливаясь и оглядываясь на него. Он — сразу за мной. Но стоило мне вырваться на пару шагов вперёд, как наша незримая связь терялась. Он не произносил при этом ни слова. Такой уж характер. Просто начинал жадно вращать практически слепым широко открытым глазом по сторонам в поисках меня. Я быстро делал несколько шагов назад и возвращался на прежнее место. Он находил меня и возобновлял движение. Так мы и прошли от места остановки такси весь вокзал до электрички.
Самым трудным для него оказалась дверь с выходом на перрон. Двери как таковой там не было. Ее снимают в летнее время. Но вот стеклянный тамбур с поворотом сразу нарушил нашу налаженную схему совместного передвижения. Я прошёл первым и обернулся, он остановился перед входом, снова меня потеряв. И опять он не издал ни единого звука. Просто стоял и смотрел. Молча. На лице отразились лёгкий испуг и раздражение. Я вернулся, снова взял под руку, против его воли, и провёл через неожиданную преграду. Пройдя, сразу же отпустил. Он остался недоволен, но мы продолжили движение.
На вокзале всё было без изменений. Обычный день. Никто не обращал на нас внимания. Всем было всё равно. Бесконечные потоки людей двигались сразу по всем направлениям. Каждый думал и мечтал о своем, не обращая внимания на проблемы окружающих. Думал о чем-то более важном, чем проблемы незнакомого старика. Своё — оно всегда важнее чужого. Оно ближе, роднее. Проблемы других совершенно иные. Они какие-то холодные и далёкие. Им не следует уделять столько внимания. Они решатся сами по себе в любом случае и без твоего вмешательства. Или не решатся… Да и какая тебе разница?
Очередным местом небольшой заминки оказался вход в электричку. Её подножка была немного ниже уровня платформы, что, естественно, вылилось в серьёзное препятствие. Я пролетел, не придав этому никакого значения. Он подошёл, схватился за ручку и стал аккуратно прощупывать пространство своей ногой, пытаясь отыскать твёрдую поверхность пола. Хотя разница между уровнями была не больше десяти сантиметров, для незрячего человека она превращалась в бездонную пропасть. Он боялся попасть ногой между поездом и платформой и провалиться на рельсы.
И вновь тишина. Он не издавал ни звука. Не произнёс ни слова. Просить о помощи было не в его характере. Ему это было несвойственно.
— Ступай, ступай, — сказал я. — Она чуть ниже, прямо под ногой.
Электричка в область в обеденное время оказалась практически пустой. Я купил воды без газа, и мы разместились на далеко не самых удобных сиденьях подмосковной «собаки».
— Как себя чувствуешь? — задал я вопрос, рассматривая его. Видеть дедушку таким исхудалым, одноглазым и обессиленным было очень непривычно и печально.
— Да хорошо, — сказал он громким голосом, глядя прямо перед собой, чуть левее от меня. — Врач сказал походить пару дней с повязкой, и можно снимать.
— Чего ещё там, в больнице, сказали? Видеть будешь лучше?
Я тоже немного повысил голос, слух в последние годы его жизни тоже заметно притупился.
— Должно стать лучше, щас, погоди… — Одной рукой придерживая повязку, он немного отклеил пластырь и взглянул в окно прооперированным глазом. Аккуратно приподнял бинт и подсмотрел.
— Может, не стоит? — поинтересовался я, немного испугавшись.
— О-о-о, намного лучше видно. Даже не сравнится, — сказал он, закрыв повязку и осторожно пригладив её.
Сейчас я знаю, что он врал. Глаз лучше видеть не стал. Да и чувствовал себя он очень плохо. Просто всячески пытался это скрыть. Я видел это, но добиться от него признания было невозможно. Да и мне оно не требовалось. Я знаю, что он очень не хотел остаться один в темноте, поэтому согласился на операцию. Ну а кто этого не боится?
Мы сидели в электричке, до отправления оставалось минут десять, и мирно общались. Я достал телефон и сфотографировал его, пока он не видит. Просто хотелось запечатлеть этот момент спокойствия. Я и дедушка. Вот такой, уставший, с одним заклеенным глазом, сидящий на жёстких деревянных сиденьях в электричке, практически слепой, но весьма довольный. Я чувствовал, что этот момент больше не повторится никогда, и пытался его запомнить. Он что-то громко рассказывал, периодически улыбаясь через боль в мою сторону. Я отвечал и улыбался в ответ.
Так и произошло. В моём телефоне это оказалась последняя его прижизненная фотография. Что-то случается в жизни в первый раз, а что-то в последний.
Но жизнь продолжается…
Спустя сорок минут мы доехали до моей остановки. Там возле дома у меня стояла припаркованная машина. Мы вышли, и ему стало плохо. Он не смог идти дальше. Я оставил его на автобусной остановке у платформы.
— Только никуда не ходи, — озвучил я свои наставления и быстрым шагом отправился за машиной. — Я через пять минут подъеду.
— Да что я, дурной, что ли? — крикнул он мне вслед.
— Здесь останавливаются не все автобусы, ему куда надо? — вмешался в наш разговор прохожий мужчина.
— Никуда ему не надо. Дедушка, жди. — И я побежал за машиной.
Спустя десять минут я усадил его в машину, и мы двинулись дальше. Я не спеша повез его в тихую подмосковную квартиру на краю города, расположенную в пятиэтажном доме между двумя озёрами за сто тридцать километров от этого места. В квартиру, где когда-то жили все мои близкие родственники, включая меня, в квартиру, где дедушка прожил большую часть своей жизни. В квартиру, где всё время разносился запах свежезаваренного крепкого чая, и сразу становилось так тепло и уютно. В квартиру, где сейчас его, сильно переживая, ждала супруга — моя бабушка.
— Смотри, дедушка, дом, в котором я живу, — сказал я, проезжая мимо своей многоэтажки, заранее зная, что он её всё равно не увидит. Но затянувшуюся тишину нужно было как-то нарушать.
Я жил в новой квартире с неоконченным ремонтом, поэтому многие из родственников её ещё не видели.
Он сразу ожил и засуетился. Сначала обрадовался и усиленно пытался напрячь зрение и всё же рассмотреть что-то в окно. И, не увидев ничего, тут же расстроился.
— Жалко, конечно, что не вижу, — подытожил он. — Ну ничего, приедем с бабушкой в гости, как станет легче, обязательно все посмотрю.
— Обязательно.
Все последующие разы он будет смотреть на стены моей квартиры и на меня только с чёрно-белой фотографии, на обороте которой аккуратным почерком синими чернилами красуется надпись: «Слесарь-сборщик сборочного цеха № 2. Записан в книгу почёта с вручением денежной премии 35 руб. за успехи, достигнутые в социалистическом соревновании в честь 56-й годовщины Великой Октябрьской революции», а рядом будут рюмка водки и кусок чёрного хлеба. Вы когда-нибудь видели человека, проработавшего более сорока лет слесарем на заводе и никогда не позволявшего самому себе ни единого матерного слова? Разве это не поразительно в современном обществе?
Да, жизнь продолжается…
И чем дольше я стоял перед гробом, тем больше находил в этом лежащем и холодном, но некогда здоровом и живом человеке родные мне черты.
Все мои доводы и оправдания иссякли. Все это очень грустно. Когда вот так уходят, а разве бывает так, что уходят весело? Разве бывает иначе?
В груди что-то сильно сжалось. Может быть, это астма напоминает о себе? Конечно, она, что же ещё… Дышать становилось всё труднее и труднее, но с каждой тяжелой секундой в мозгу все отчётливее и ярче всплывала и утверждалась всего одна-единственная мысль.
Да, это был он. Ошибки быть не может.
Грустно. Печально. Обидно.
За что обидно — непонятно. Но все эти чувства смешались в груди в один не самый приятный коктейль и подступили к горлу. Большим и противным комом. Да, в этот миг я узнал в лежащем человеке своего родного дедушку. Александра Сергеевича.
Дед. Дедуля. Дедушка.
При жизни я позволял себе называть его только дедушка. Вернее, он позволял мне себя так называть. Один-единственный раз на моей памяти, сидя вместе за праздничным столом на второй свадьбе его младшего сына — моего дяди, я, будучи изрядно выпившим, произнёс в его адрес слово «дед». За что и был мгновенно пристыжен. Он медленно повернулся в мою сторону и произнёс спокойным, но строгим голосом:
— Какой я тебе дед?
Я посмеялся и извинился. Но больше никогда такого не делал. Знал, что он будет недоволен. Сегодня я исключил из своего лексикона слово «дедушка». Уже некого так называть, а когда речь или мысли заходят о нем, я всегда говорю «дед». Не потому, что я такой вредный внук, нет. Просто каждый раз произнося это терпкое и ёмкое слово в его адрес, я чётко слышу в голове фразу: «Какой я тебе дед?», произнесённую его голосом и интонацией.
Она навсегда въелась в мою память. Я будто бы включил в тот момент аудиозапись и записал её на подкорке головного мозга. Сохраняя в первозданном виде. Оставив оригинальными тембр и силу его строгого голоса.
— Дед…
— Какой я тебе дед?
И мне сразу становится немного легче. Немного теплее. Я чувствую, что он где-то рядом. Где-то совсем близко. Просто не в поле моего зрения. Я его не вижу, в отличие от него. Сейчас он наконец-то все отлично видит, так, как и мечтал последние годы своей жизни.
В груди снова что-то сжалось и не даёт глубоко вдохнуть. Да, ингалятор здесь не поможет. Это нечто гораздо хуже обычной астмы. Это скорбь. Во всей своей красе. Скорбь по родному и безвозвратно ушедшему человеку. Она не лечится, к большому сожалению. От неё нет лекарства, и чем только доктора занимаются в своих лабораториях, если большинство человеческих недугов лечить так и не научились?
Время — единственное лекарство, но оно очень противное и долго действующее. Оно помогает весьма хреново. Особенно в первое время. Очень медленно и не до конца. Оставляя большой рубец.
«Рак слепой кишки с метастазами в лёгкое и печень». Такой диагноз числится в его заключении о смерти. Почему от этого нет лекарства? Даже если бы эту болезнь нашли при жизни, шансов на спасение в настоящее время она не оставляет.
Рак слепой кишки. Я понимаю, когда люди погибают от пуль или в автокатастрофе, под колёсами машин из-за невнимательности или алкогольного опьянения водителя. Я даже понимаю, когда люди срываются с крыши, сгорают на пожарах или замерзают во льдах, но наличие такой страшной болезни в XXI веке, веке цифровых технологий, меня искренне удивляет. Создаётся впечатление, что при необходимости любого человека можно просто убрать из игры. Не объясняя причины.
Рак… Что это вообще за болезнь? Только вдумайтесь… Она поражает кого угодно, когда угодно и куда угодно. Вне зависимости от твоего возраста, пола и образа жизни. От твоих пожеланий и предпочтений. От твоих стремлений и твоих целей. Неважно. Главное, что кого угодно и куда угодно.
Это какая-то дьявольская лотерея. В аду сидит Сатана в своем любимом кресле из человеческих костей и крутит барабан с миллиардами имён живых людей. Стрелка укажет, кому сегодня не повезёт.
Рядом стоит его злобный маленький помощник — Рак. Щуплый и безобразный, который крутит барабан чуть поменьше, с человеческими органами. На какой укажет стрелка — тот и поражает.
Вечером, сидя у себя в кабинете, Рак рассматривает тысячи отчётов о проделанной за день работе. Прислуга приносит ему одно за другим заключения о смерти, и лёгким движением руки с улыбкой на лице он их подписывает. Крестиком. Оставляя свой автограф: «С любовью, ваш Рак!»
Затем несёт их радостно Сатане.
Отличный способ, не требующий дополнительных пояснений. Просто не повезло.
Но ведь жизнь продолжается…
Гроб быстро закрыли. Забили четыре гвоздя в крышку. По углам. Затем погрузили в машину с неприятной табличкой «Ритуал» и повезли в сторону кладбища.
Я присутствовал на похоронах в первый раз в жизни. Первый раз за тридцать лет. В общем-то, это хорошо и когда-то должно было случиться. Я всегда знал об этом.
Бывать мимоходом на кладбищах мне доводилось и раньше. Проходя мимо сотен или тысяч памятников с изображёнными на них иногда счастливыми, иногда не очень лицами и холодными бесчувственными датами, я всегда поражался тому, сколько же здесь, на этом небольшом клочке земли, похоронено человеческих судеб. Сколько пролито слёз, сколько испытано горя.
И вот, неся на своем плече гроб к месту его погребения, я понимаю, что сам в этот момент стал частицей этого печального мира надгробий и крестов.
Лёгкий дождь покрывает всё мелкими противными каплями. Гроб, лицо, руки — всё становится липким и сырым. Сырым и липким. Хотя эта погода идеальная для подобных мероприятий. Этот неприятный день не испортит больше ничего. Его не изменить. Яркое светящее солнце и пение птиц не сделают его более радостным. Так же, как и противная морось не сделала его более грустным.
Единственное, о чём я думал в тот момент, когда нёс гроб с мёртвым дедушкой вдоль безграничного леса крестов и памятников, было «смотри себе под ноги, не упади, только не упади».
Ведь дождь вперемешку с могильной грязью и спускающейся книзу тропинкой создали скользкую горку наподобие аквапарка, а мои дешёвые туфли с гладкой обшарпанной подошвой идеально подходили на роль коньков.
Я был собран и сконцентрирован, как никогда в жизни. Ступал аккуратно, как сапёр по минному полю.
Уронить гроб — что может быть сейчас хуже?
Эти мысли покинули меня ровно в тот момент, когда я увидел выкопанную могилу и аккуратно передал свой угол в руки одного из могильщиков. Они вчетвером перехватили гроб у родственников и стали медленно опускать его. Все остальные выстроились перед ними в полукруг.
Стоило только гробу уйти из моего поля зрения, исчезнуть в глубинах ямы, я немного запаниковал. Хотелось кинуться на этих незнакомых мне людей и закричать:
— Эй, что вы тут делаете? Что вы себе позволяете? Там же мой дедушка… Быстро поднимайте обратно.
В груди снова всё сжалось, а казалось, что больше некуда. Его уложили на дно ямы. Мы подошли и дружно начали бросать сверху на крышку по три горсти сырой земли. Правой рукой.
Такой вот ритуал.
После этого главный могильщик кивнул остальным своим сотрудникам, и они мигом засыпали и разровняли свежую могилу. Для них это не впервой. Для них это работа. Причем проделали они все это удивительно быстро. Опыт не пропьёшь. Через минуту я уже стоял у деревянного креста с табличкой с его именем.
И всё было кончено.
В детстве я иногда сам думал о своих похоронах. Как оказалось, такие мысли посещают многие юные головы. Представляешь себе весь процесс, тех, кто пришёл, кто что-то сказал, кто заплакал, а кто просто простоял молча всю церемонию, и испытываешь при этом некоторое волнение. Интересно было узнать, каким тебя видели люди, каким они тебя запомнили, но искренне они могут это сказать лишь в определённых условиях. Похороны казались именно таким местом. Да, я несколько раз представлял себе свои похороны и думал, что такое может прийти только в мою нездоровую голову. Потому что я особенный. Я не такой, как все. Думал я так ровно до того момента, как однажды одноклассник Павел не поделился со мной абсолютно идентичной мыслью.
— Знаешь, — сказал он, — вчера полночи не мог заснуть, представлял себе свои же похороны. Было так странно. Думал, что же произойдёт, если я умру…
Дальше следовал короткий пересказ всех моих мыслей, только от него. Один в один.
«Да, Алексей, — подумал я, — ты никакой не особенный. Ты как все».
И я приземлился.
Стоя же сейчас здесь под противным моросящим дождем, я понимаю, что не смог бы сказать ни слова. Да и не стал бы этого делать. Слова исчезли где-то внутри. Сразу за болью.
Ещё совсем недавно был человек. Со своими чувствами, мечтами, желаниями, со своей непоколебимой точкой зрения, с любимыми фильмами, любимой музыкой, любимыми цветами. Сидел, смотрел себе телевизор, разгадывал кроссворды. Потом его не стало. Осталось только холодное, исхудавшее тело, разум воспарил к небесам. Всё то, что было раньше его земной жизнью, стало чёрно-белыми воспоминаниями близких ему людей и сохранилось лишь на множестве фотографий избранными моментами его жизни. Лучшими моментами. Совершенно не отображающими в себе ни сущности его характера, ни его суровый нрав. Ни то, каким человеком он был. Лишь запечатлённый миг его жизни. Миг… и холодное тело.
Сейчас даже оно было предано сырой земле. Оно, провожаемое взглядами друзей и родственников, было погружено в темноту, в которой он так не хотел оказаться. Вот и всё. Вот и финал.
Но жизнь продолжается…
Спустя несколько дней я отправился к нему домой. В ту самую квартиру, куда вёз его после операции. Отправился вместе с бабушкой. Я прожил здесь последние три школьных года. Три трудных года под одной крышей.
И первое, что я почувствовал, зайдя в квартиру, — насколько эти стены стали чужими. Вроде бы всё как всегда. Всё на своих местах. Все книги, фотографии, картины. Но теплоту этого места передавали только люди. Не обстановка, не предметы и не вещи, а исключительно люди.
Мы сидели и перебирали старые и уже ставшие неожиданно никому не нужными вещи. Различные бумаги, старые счета, документы. Дедушка, как и многие в его возрасте, хранил дома кучу ненужного хлама. Считал, что когда-нибудь он ему пригодится. Не пригодился. Ценность большинства этих вещей обнулилась мгновенно, как только его не стало. Это было поразительно. Как быстро обесценивается то, что дорого нам при жизни, после нашей смерти. У меня дома тоже хранится много непонятных вещей: детские грамоты, студенческий билет, старые школьные открытки. Они не стоят ни рубля на рынке, но в то же время имеют необъяснимую ценность для меня. Почему так происходит? Ответа нет. Но я точно знаю, что после моей смерти их ждёт та же участь. Они отправятся на помойку. Прямой наводкой, и никого это не опечалит.
Всё же мне на глаза попался один предмет, выбросить который моя рука просто не поднялась. То, без чего я просто не мог вспомнить эту некогда дорогую мне квартиру. Это дерево лимона, росшее на окне рядом с любимым дедушкиным креслом. В хорошие времена оно разрасталось и плодоносило. Большие зелёные лимоны увеличивались и набирались витаминов прямо на этих тонких ветках. Казалось, что они сломаются, не выдержав этой нагрузки. Были и весьма неплодородные времена, когда дерево высыхало и все листья с него опадали. Но факт оставался фактом — дерево было всегда, сколько я помнил.
Сейчас дерево выглядело ужасно, видимо, ощущая горечь потери на себе. Его пересадили, подпилили ствол и уже давно не поливали, было не до этого. Оно еле держалось, стоя в большом и грязном горшке. Несколько ещё зелёных листочков на самой макушке давали надежду на его возможную реабилитацию. И я решил попробовать. Зная, как дорого оно было деду (какой я тебе дед?).
Попробовать можно всегда. Ведь оно тоже в один момент превратилось в ненужную вещь, а я этого не хотел. Ведь живое, будь то дерево или растение, — оно всё равно немного ценнее всего остального.
Надеюсь, оно разрастётся.
— Знаешь, Лёша, — сказал мне дедушка, когда я вёз его в электричке до машины. Народу в ней было совсем немного. — На нас с бабушкой очень сильно повлияла смерть Тома, и её здоровье, и моё сразу же резко ухудшилось. Представляешь, как все взаимосвязано?
Том — это кот, которого мне подарил отец на десятилетие. Когда я окончил школу и отправился учиться в институт, я оставил его с бабушкой и дедушкой. По кошачьим меркам он оказался полноценным долгожителем. Он умер незадолго до этого разговора в возрасте более двадцати лет. Дедушка похоронил его сам, недалеко от дома. За гаражами. Они очень сильно переживали его смерть. Любовь — она такая волнующая, а смерть любимца — это всегда удар в самое сердце. И вот после этого их здоровье действительно пошатнулось. Кот часто сидел на ногах дедушки, когда тот смотрел телевизор, сидя в кресле. Дед терпел. Это было тяжело. Кот был немаленький, ведь кормила его последние пятнадцать лет исключительно бабушка.
— Ты кормишь его лучше, чем меня, — любил ворчать дедушка.
Но терпел и вставал с кресла только тогда, когда коту самому надоедало там сидеть и он решал сменить свою дислокацию. Место своей лёжки. Дед очень много терпел, но виду не подавал, даже лёжа месяц в кровати перед самой смертью, мучаясь от бесконечной боли, он тоже терпел. Молча. Стиснув зубы. Такой вот характер.
Мы всегда надеемся, что наши близкие будут жить вечно, хотя и знаем, что этого не произойдёт. Что наступит момент прощания, но как же хочется оттянуть его на потом. На как можно больший срок. Никогда не знаешь наверняка, глядя в глаза любимому и родному человеку, а не в последний ли раз я вижу тебя сейчас?
Это и есть самое обидное…
***
Зачем я все это пишу? Не знаю, но иначе все эти мысли беспорядочно бьются о стенки моей черепной коробки, как дикие рыбки, выпущенные в круглый и очень тесный аквариум. Они мечутся из стороны в сторону, толкаясь и пытаясь вырваться на свободу, заранее зная, что обречены. Им слишком мало места, они просто мешают друг другу жить.
Но ведь это не повод бездействовать.
Извлекая их наружу и помещая на шершавую белую бумагу, я освобождаю немного места в своей голове для новых рыбок, которые обязательно здесь появятся. Каждая из них освобождает ячейку памяти в моей голове, но не теряется, поскольку это важно, а мысли о похоронах близкого человека ещё грузные и тяжёлые. Становится немного легче и свободнее. Перенеся на бумагу свои переживания и тревоги, я тут же о них забываю. Они меня больше не беспокоят — это спасает меня от безумия. По крайне мере, временно.
Всё это лишь момент, и моя жизнь тоже, и жизнь каждого из нас. Так уж устроено. Есть по частичке у каждого, и есть одна большая. Общая. Наши пробники когда-то закончатся. Мы этого даже не заметим. Неожиданно исчезнем, оставив после себя горы ненужного мусора и кратковременные грустные воспоминания. Это совершенно, в общем-то, никому не важно.
Ведь, даже стоя возле моего гроба на церемонии прощания, кто-то кому-то на ухо тихонько шепнёт: «Ничего, жизнь продолжается…»
И это будет правдой…
Редактор Анна Волкова
Другая современная литература: chtivo.spb.ru