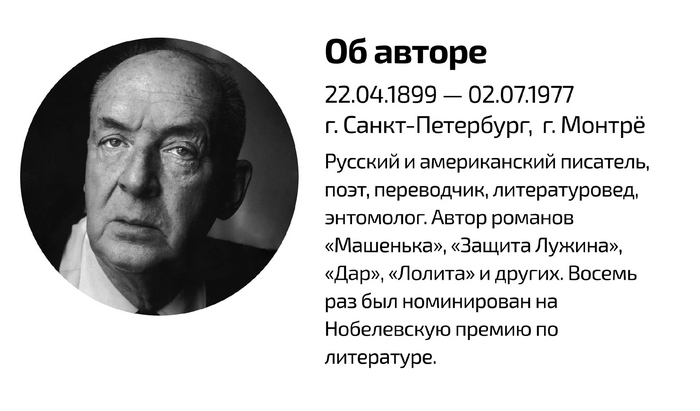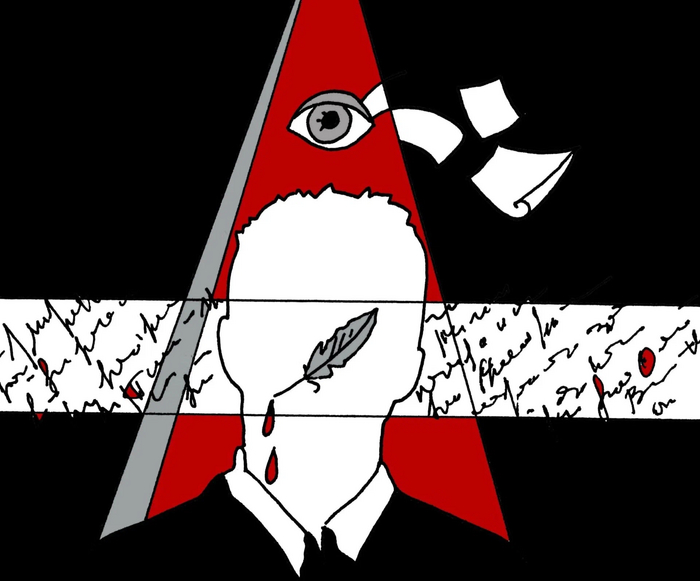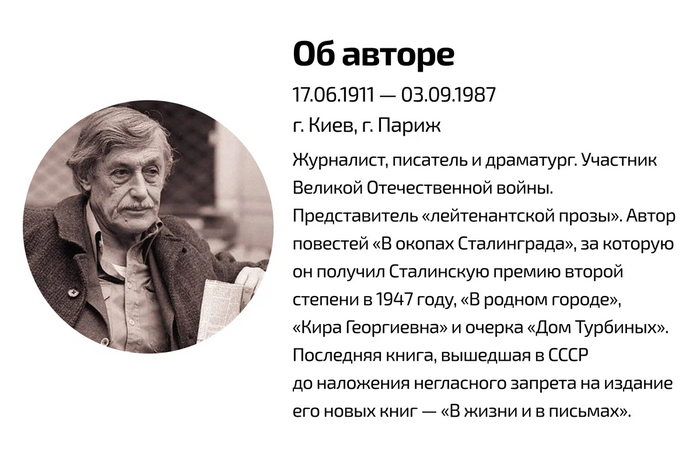Его свет | Артём Северский
Чета Беловых, Виталий и Вера, купили квартиру в новостройке и стали жильцами второго подъезда. Квартира их была на девятом этаже двенадцатиэтажного дома, жёлтого, как лимон. Желающих очень мало, сказал им риэлтор, так что некоторое время вам придётся пожить в одиночестве. Беловы пожимали плечами: ладно. Виталий даже радовался тому, что ниже и выше них в подъезде больше никого нет. Тишина и покой. Что им двоим ещё надо? Вера соглашалась, но нервничала и тщательно скрывала свою тревогу. Ещё не привыкнув к новому месту, лежала по ночам и смотрела в потолок, где отражались размытыми пятнами уличные огни с проспекта. Шторы повесить ещё не успели, и широкие окна, точно стенки аквариума, казалось, демонстрировали жизнь Беловых всему городу. Прошлое их жильё, наоборот, было клаустрофобным, тесным, где толком не развернёшься. По новой квартире Виталий ходил хозяином, тогда как в прошлой, ругаясь на всё и вся, перемещался боком, словно краб. Ему нигде не хватало места, чтобы чувствовать свободу.
Зажили, понемногу осваивались. Возбуждение первых дней и усталость от переезда прошли. Вера стала спокойнее относиться к переменам. Виталий же расцвёл, на его щеках светился румянец. Глядя на мужа, Вера тоже начала чувствовать изменения в себе. Реже приходила в депрессивное состояние. И хотя она по-прежнему не работала, на чём настаивал муж, в её жизни, как ей казалось, появился смысл. Ближайшей задачей было обустроить новое место, создать семейное гнёздышко, о каком они всегда мечтали. Теперь, когда появилась такая возможность, Вера готова была свернуть горы.
Тем утром она встала и почувствовала прилив сил. Озираясь по сторонам, наконец могла сказать: это наш дом. Здесь можно быть в безопасности.
Виталий позавтракал, чмокнул жену в щёку и поехал на работу. Вера проводила его до двери, закрылась, погладила коробочку домофона, оснащённую экраном, и вернулась на кухню помыть посуду. Тишина казалась ей благодатной.
Закончив домашние дела, Вера села на диван в большой комнате, включила телевизор и, попивая холодный кофе с молоком, лениво раздумывала, строила планы обустройства квартиры. Что купить, как всё оформить, чтобы соблюсти баланс между уютом и пространством, где муж мог бы чувствовать себя свободно.
Наконец Веру стало клонить в сон, и она выключила телевизор и легла на правый бок, подложив подушку под голову.
Стук в дверь раздался через тридцать минут. Вера открыла глаза, ожидая, что произойдёт дальше. Она даже не была уверена, во сне слышала этот звук или наяву.
Постучали снова. Вера встала и, сбитая с толку, на цыпочках, отправилась ко входной двери. Она помнила, что подъезд пустой, а Виталий всегда предупреждает о своем раннем возвращении.
Посмотрев в глазок, Вера увидела мужчину в чёрном худи, стоящего вполоборота. На его лицо падал дневной свет. Оно было костистым, с острым носом-клювом, но, на взгляд Веры, не отталкивающим.
— Кто там?
Её сердце колотилось от страха.
— Добрый день. Извините, но вы случайно не слышали мою кошку?
Вера несколько раз моргнула.
— Кошку?
— Я живу на двенадцатом этаже. У меня есть кошка, и она иногда выбегает из квартиры и слоняется по этажам.
— И что? — спросила Вера.
— Она глупая.
— Кошка?
— Да. Убежав, она не может потом найти путь обратно и начинает мяукать. Особенно громко, когда проголодается.
— Ясно.
— Так вы случайно её не слышали? — спросил мужчина после короткой паузы.
Теперь он смотрел в глазок, и Вере почему-то было стыдно. Она решила открыть.
Незнакомец действительно как будто пришёл из дома. Во всяком случае, на это указывали тапочки.
Улыбнувшись, он сказал:
— Извините.
— Да ничего, — ответила Вера, надеясь, что собственным видом не испугает единственного соседа. — А какая она?
— Чёрная такая, короткая шерсть. Зовут Маня. — У него была широкая улыбка, приятная, даже какая-то наивная, словно у подростка, который робеет перед взрослым. Вера решила, ему лет двадцать пять.
— Я не видела, — Вера обняла себя руками и прислонилась к косяку. — Мы тут недавно, месяц где-то. Нам говорили, что в подъезде больше никто не живёт.
— Да? Ну, вот я живу, — засмеялся сосед. — Кстати, Олег.
Вера посмотрела на его руку, которая протянулась к ней, и пожала её осторожно.
— Вера.
— А вы тут с мужем живёте?
— Да. Его нет. Он на работе.
— И как вам?
— Ну, нравится. Много места, вид из окна хороший. Довольны, — Вера не хотела распинаться и выражать бурный восторг.
Олег кивнул и сунул пальцы в задние карманы джинсов.
— И куда ж это Маня подевалась?
— А вы давно переехали? — спросила Вера.
— Недавно. — Всё, больше никаких комментариев. Лишь полнейшее дружелюбие.
— Ну, бродит где-то Маня. Этажей-то много.
— Точно. Пойду искать.
Он развернулся, и тут Вера сказала то, чего не ожидала от себя:
— Может, войдёте? У меня кофе есть, чай. Вроде и пиво.
Получилось как в кино. В мелодрамах, которые она на дух не переносила.
Олег поглядел на нее вопросительно.
— Знаете, я соглашусь. Посмотрю, как вы живёте.
Вера отодвинулась, чтобы он мог войти. Олег перешагнул порог, сам закрыл дверь.
— Семейное гнёздышко, — сказал он, озираясь.
— Я только прикидываю, как тут всё обустроить, — отозвалась Вера.
— Дом, созданный с любовью… Что может быть лучше? Истинно благородная цель для каждого человека.
— Да.
Вера пришла на кухню. Обернувшись, она не сразу поняла, где её гость. Он же, быстро осмотрев квартиру, вошёл через проём довольный.
— Мне нравится. Поздравляю.
Вера кивнула.
— Вам что?
— Я бы выпил стакан пива.
— Ладно. — Действуя вяло, автоматически, она добралась до холодильника, вынула холодную банку, открыла её и наполнила стакан, который взяла из навесного шкафа.
Олег сделал шаг и остановился рядом с ней. Поблагодарил, взял пиво. Вера сначала вся сжалась внутри, но через секунду это напряжение пропало, а из центра живота пошло тепло.
— Мне нужна только любовь, — сказал Олег, — Без любви я сам не свой. Вы меня понимаете?
— Конечно, — Вера отодвинулась в направлении окна, но предпочла держаться от Олега на расстоянии вытянутой руки.
— Я сам не свой и начинаю злиться. Подобно чёрному дождю, состоящему не из воды, а из какой-то зловредной инопланетной субстанции, на меня обрушивается злоба. Она затопляет мою душу, — Олег покачал головой, — и становится невыносимо жить.
Вера повернула голову, надеясь увидеть его глаза. Олег смотрел в окно.
— И что вы делаете?
— Что делаю? — Он пил пиво, ухмыляясь. — Принимаю меры. Подумайте сами, я центр своей собственной вселенной, и нет никого в ней важнее и дороже меня. И тут вдруг кто-то причиняет мне своим пренебрежением зло. Как мне реагировать? Нет, такие вещи непростительны. Я прав, Вера? Скажите.
Вера вздохнула.
— Вы правы, — это был единственный ответ, который она могла дать.
Олег поставил стакан на стол.
— Спасибо.
Вера стояла спиной к центру кухни. Олег вырос позади неё, взял за плечи. Она замерла, задержав дыхание. Олег наклонился и поцеловал её в шею с правой стороны.
— Я хочу, чтобы ты думала обо мне.
— Обещаю.
Мужу Вера ничего о новом соседе не сказала. Если Олег вдруг сам явится, когда Виталий будет дома, то и пускай. Но было страшно: они же не условились делать вид, что незнакомы.
За ужином Виталий рассказывал, как прошёл день, травил байки о своей работе и коллегах. Вера делала вид, что слушает, а сама думала об Олеге. Воображала его бродящим по этажам в поисках странной кошки. Человеку нужна любовь — и больше ничего. Что в этом такого? Одинокий, без семьи, Олег, наверное, очень страдает.
Вере было очень его жаль, а ещё она вспоминала тот поцелуй — всё время, пока они с Виталием смотрели телевизор и пока готовились спать, и когда легли.
В темноте Вера смаковала тишину. Если кошка будет мяукать под дверью, она услышит её отсюда? Несчастное глупое животное, наверное, где-то сидит.
Во сне Вера увидела, как она подкрадывается к входной двери и открывает её. И прямо за порогом вспыхивает сверхновая звезда, и ослепительный свет выжигает Верину плоть до пепла.
Виталий ушёл на работу. Вера не находила себе места, с тревогой представляя его реакцию. Что бы сделал муж, узнав, что она грезит об Олеге и ждёт его возвращения? Она не назвала бы Виталия ревнивцем, но такие навязчивые мысли о другом мужчине походят на измену.
Сделав домашние дела, Вера села перед телевизором и стала ждать. Олег пришёл в то же самое время.
— Раздевайся, — сказал он.
Вера отправилась в спальню, сняла одежду, встала у кровати, чтобы встретить Олега, уже голого. Они легли, лаская друг друга, и секс, который последовал за этим, Вера с полным правом назвала бы лучшим за последние годы. А может, если оценить способности Виталия как любовника придирчиво и разобрать мужчин, что были до него, и за всю жизнь.
Олег вытянулся поверх покрывала, заложив руки за голову. Вера, расслабленная и сонная, потная, лежала рядом на боку. Обнимать его она не осмеливалась, но ей и так было хорошо. В те минуты Вера была самым счастливым куском мяса на свете. Вся её обязанность свелась к получению удовольствия.
— Ты нашёл свою кошку?
— Нашёл.
Виталий вернулся не в обычном приподнятом настроении, а подавленный. Всему виной был паршивый сон, который он увидел под утро. Сон забылся в рабочей суматохе, но вечером вдруг ожил в памяти.
Съев ужин, Виталий открыл банку пива и стал глотать неспешно, морщась от пузырьков.
— Я как будто стою в длинной очереди. Она тянется параллельно улице и уходит так далеко, что не видно конца. Не знаю, что за очередь такая, но я чувствую, что стоять необходимо. И так, знаешь, тревожно внутри — в кошмарах сплошь и рядом. Ненавижу это чувство.
Вера вымыла посуду, вытерла руки и села за круглый стол в центре кухни. Между супругами горела на потолке жёлтая лампа с коническим абажуром.
— И вот, стоим мы, стоим. Я пытаюсь смотреть на людей, но взгляд скользит мимо. И всё вокруг серое. Сам воздух серый. Но это не пыль. Точно из стоящих в очереди, из их душ высыпается нечто дрянное, — Виталий пожал плечами, — я подумал в какой-то момент, что рядом со мной куклы. Или роботы. Я испугался, хотел бежать, но не смог сойти с места. Пытаюсь, но не могу. И горло сжимает! И подбегают ко мне высокие такие типы в чёрном, в масках. Хватают меня и начинают трясти, пальцами впиваются в мышцы. Уже через секунду я вижу, что лежу почему-то на рельсах, а на меня наезжает трамвай, и что это не руки людей в чёрном, а железные колёса сейчас меня разрежут. Вот такая мерзость снится.
Виталий улыбнулся, одним глотком допил пиво, встал и выкинул банку в ведро.
Вера осталась сидеть. Большую часть его монолога она думала об Олеге. Муж ушёл в комнату, там включился телевизор.
Вера вспомнила сегодняшний секс. У неё задёргалось лицо с левой стороны.
— Это ещё кто? — она вдруг заметила, что Виталий проходит мимо кухни к входной двери и услышала вежливый стук. Олег всегда стучал, а не звонил.
Боясь пошевелиться, Вера ждала. Виталий открыл дверь. Вера сорвалась с места и выбежала в прихожую.
Олег стоял за порогом, а её муж, держась за дверь, смотрел на него. Олег улыбался.
— Извините, не хотел отвлекать вас.
— Ничего страшного…
— Я ваш сосед с двенадцатого этажа. Больше, как я понимаю, никого в нашем подъезде нет. Меня зовут Олег.
Вера стояла в двух шагах от мужа, и по её спине стекал пот. Виталий представился, они обменялись рукопожатием. Олег наконец заметил Веру.
— Моя жена, Вероника.
— Вера, — механически поправила она Виталия.
— Очень приятно, — кивнул Олег. — Теперь, когда я знаю, что не один здесь, мне не будет так одиноко.
Виталий потёр висок, словно у него заболела голова.
— Да. Точно. Вы входите, поболтаем. Пиво есть.
Олег одобрительно кивнул.
— Не откажусь. Спасибо. Отметим знакомство.
— Да… — повторил Виталий. Он вёл себя странно. Потирал висок, его речь замедлилась.
Вера, испытавшая ранее облегчение от того, что Олег не выдал их секрет, прикусила губу. Боль слегка заглушила чувство страха.
— Как всё-таки удивительно, что мы оказались одни в пустом подъезде. Как робинзоны, а!
Виталий посторонился. Олег вошёл в квартиру по-хозяйски и двинулся мимо Веры, громко восхищаясь обстановкой.
Виталий закрыл дверь и побрёл следом. На жену он не смотрел, его лицо стало оттенка серого картона. Вера, приклеившаяся к месту, наблюдала за его перемещением по кухне. Там муж открыл холодильник, вынул пиво и пошёл за Олегом. Вера добралась до большой комнаты, встала в проёме.
Гость обосновался в центре дивана, положив ногу на ногу. Виталий протянул ему банку. Они чокнулись — за знакомство. Затем Верин муж сел рядом с Олегом, словно они давние приятели и каждые выходные проводят, следя за футбольным матчем.
Вера дрожала. Одна часть её хотела видеть Олега, трогать его, ласкать. Другая боялась и ненавидела.
— Ну, чего стоишь там? — спросил Виталий, обернувшись через плечо. — Вер, садись к нам.
— Не хочу. Голова болит, — ответила она и поспешила уйти в спальню.
Там Вера села в кресло у окна и стала слушать, что происходит за стенкой. До неё доносились приглушённые голоса мужчин. Она не понимала ни слова, только ловила интонации. В какой-то момент Олег встал и начал ходить по квартире, всюду суя свой нос. Раньше он не позволял себе такого, и Вере стало тошно от подобной бесцеремонности. Словно это и не Олег вовсе, а кто-то лишь на него похожий.
Она вздрогнула, когда он вдруг вошёл в спальню, остановился у кровати, где они вчера занимались сексом, и, подмигнув ей, громко сказал:
— Мы решили с Виталием, что я остаюсь тут жить.
— Да? — тускло выдала она.
— Конечно.
Виталий появился у него за спиной.
— Скажи.
— Останется, — подтвердил Верин муж.
— Почему? — спросила Вера.
— Он одинокий человек, а одиночество разрушает. Мы с тобой должны быть добрыми, иначе будет плохо, пойми. И у нас полно места.
— Я займу диван, — сказал Олег. — Уж не выгоню вас из любовного гнёздышка. — Он кивнул на кровать со своей обычной широкой улыбкой. — Можете не беспокоиться, интим — это святое. Я не буду вас тревожить. Мне надо только немножко любви. Или я приму меры.
Виталий развел руками.
— Вер, он прав.
Она кивнула.
— Всё было предрешено. Ничего нельзя изменить, — добавил Виталий.
Вера опять кивнула, ненавидя себя за полнейшее безволие. С другой стороны, если всё предрешено, к чему возражать?
Олег снова подмигнул ей. Веру прошиб пот. Странно, что Виталий до сих пор ничего не знает.
Мужчины вышли из спальни, оставив Веру с чувством, что её саму кто-то подменил.
Настала ночь. Олег лёг в большой комнате. Сон не шёл к Вере, в голову лезла всякая дрянь. Уснув под утро, она снова увидела тот сон: когда, открыв входную дверь, сгорела в волне яркого света.
Виталий проснулся с головной болью и ушел на работу без завтрака.
Зато с удовольствием завтракал отлично отдохнувший Олег. Веру тянуло к нему, но она не могла заставить себя добровольно прийти в его руки. Олег принудил. Оттащил на диван и грубо втиснулся в неё. На этот раз никакой ласки, никаких прелюдий. Закончив, он сходил умыться и сел на диван. Потребовал есть. Вера, понимая, что это навсегда, пошла готовить.
Так продолжалось день за днём. Только по выходным Олег делал вид, что с Верой они просто соседи и друзья и при Виталии почти с ней не разговаривал. Это было хорошо. Выходные давали ей время прийти в себя после изнасилований. С мужем она заниматься сексом прекратила, да он, кажется, и сам вовсе об этом забыл.
Лицо Виталия теперь всегда было хмурым, брови сведены, словно он решал в уме сложную задачу. Был с женой немногословен, пассивно-агрессивен.
Смирившись с положением вещей, Вера больше не думала ни о ком, кроме Олега. Его атаки она воспринимала как должное. Ей нравилась боль, дававшая чувство стабильности, правильности. Если он вдруг становился нежен, Вера места себе не находила и много плакала. Напрасно, напрасно это, убеждала она себя, ведь если все предрешено, к чему сопротивляться?
Однажды Виталий вернулся домой в своё обычное время. Помыл руки. Выпил банку пива, отказавшись ужинать, и посидел минут пятнадцать с Олегом на диване. Они смеялись, болтали о чём-то, пока Вера возилась на кухне.
Неожиданно муж вошёл и сказал:
— Я всё знаю. Вы с ним трахаетесь. Пока я на работе, вы оскверняете брачное ложе.
Вера открыла рот, но не смогла выдавить ни звука.
— Ты грязная. Я тебя ненавижу, — лицо Виталия стало тёмно-красным.
Олег, улыбаясь, появился в дверном проёме и, сунув руки в карманы, с неподдельным, детским интересом наблюдал за сценой.
— Я должен был бы покарать тебя за твои злодеяния, шлюха! Как ты могла?
— Прости… — сказала Вера.
— Вера, мне тоже кажется, ты плохая женщина, — покачал головой Олег.
— Но… я… Прости, — мямлила она сквозь слёзы. Багровое лицо мужа расплывалось перед ней.
— Я на тебя плюю, — выкрикнул Виталий и, резко повернувшись, пошёл прочь, мимо Олега, в коридор.
Тот вздохнул.
— Видишь, до чего ты довела мужа. Немыслимо! А я ещё тебе доверял, считал тебя порядочной женщиной, с высокой социальной ответственностью. О чём же ты думаешь, когда я тебя трахаю?
Вера не могла устоять и очутилась на полу. Сидя, привалившись к дверце мойки, она ошалело взирала на Олега снизу вверх.
Виталий появился через несколько секунд. В его руке был молоток, который он, широко размахнувшись, опустил сзади на голову Олега. Раздался звук, словно сломали обёрнутую в полотенце керамическую чашу. Олег в одну секунду, осев мешком, свалился на пол прямо перед Верой. Виталий, наклонившись, стал бить его по голове снова и снова. Кровь летела во все стороны, попадая на мебель, на пол и потолок. В конце концов багровая, дурно пахнущая река полилась к выходу из кухни. Вера, вся забрызганная, сидела и смотрела на её движение. Оно завораживало.
Виталий откинул молоток и подошёл к жене.
— Надо убрать труп.
Он тоже был весь в крови. Вера никогда не думала, что однажды увидит мужа таким.
— Давай! Как стемнеет, я отвезу его за город. Есть одно место, где тело не найдут.
Вера еле-еле встала. Виталий принёс большой кусок плёнки, в который они завернули Олега. Кокон плотно спеленали скотчем, следя, чтобы остатки крови не вытекали. Вера отмыла то, что попало на пленку, и они отволокли тело в коридор и положили у двери. Вера вернулась на кухню и стала мыть. Её тошнило, перед глазами темнело. Дважды с ней чуть не случился обморок. Пять или шесть вёдер воды ушло на то, чтобы убрать кровь, целая бутылка моющего средства с хлоркой. Воняло жутко. Вера открыла все окна и прыснула освежителем воздуха. Умылась, переоделась и грязное положила в мусорный мешок вместе с одеждой Виталия. Учитывая, что у Беловых не было опыта заметания следов преступления, справлялись они весьма неплохо.
Жутко устав, Вера села на диван и тупо уставилась в одну точку. Олег, её любовник, мёртв. Что она теперь будет делать?
Виталий вошёл в комнату.
— В карманах у него ничего нет. Только ключи от квартиры. Ни смартфона, ни денег. Где он живёт?
Вера посмотрела на мужа.
— Двенадцатый этаж.
— А номер?
— Не знаю. Он тебе не говорил?
— Нет.
Вере почудилось, что на месте Виталия стоит Олег с размозжённой головой.
— Но ты же…
— Но ты же! — перебила Вера, передразнив. — Ты с ним общался куда больше. Между вами, мальчиками!
Виталий посмотрел на нее исподлобья.
— Ладно.
Через час Виталий вынес тело и загрузил в машину, которую подогнал к подъезду. Никто ему не помешал, никто ничего не видел. Двор был пуст. Редкие огни в окнах соседних подъездов казались приемлемым риском.
Вера выпила пива, чтобы немного расслабиться. Нарочно громко включила телевизор и ждала звонка Виталия. Он объявился только через четыре часа. Сообщил, что справился. Проблема решена. И прибавил:
— Мы должны сходить в его квартиру, посмотреть, есть ли там что-то, что может нас выдать.
Вера согласилась. Существуют эти улики или нет, её не интересовало. Зато хотелось увидеть место, где жил Олег. Ещё она думала о кошке. Придётся, наверное, взять бедняжку к себе. Не бросать же ни в чём не повинное животное на произвол судьбы.
Виталий влетел в квартиру, его ботинки были в земле. Вера не стала спрашивать, где он был.
— Идём, — сказал муж, будучи на взводе. Вера надела ветровку, и они пешком поднялись на двенадцатый этаж.
На этаже было темно. Включив фонарики на смартфонах, Беловы начали обследовать одну квартиру за другой, пробуя, где подойдут ключи.
И вот повезло. Нижний замок поддался. Виталий нажал на ручку, потянул. Замер. Вера ощутила, как её ноги подгибаются. Муж открыл дверь пошире и, светя фонариком, шагнул через порог. Нащупал выключатель, но тот не работал. Так же в потемках, Беловы двинулись в квартиру. Вера едва шла, отчётливо понимая, что они делают нечто совершенно неправильное и что им придётся за это расплачиваться.
Кошка не вышла встречать их, не издала ни звука. Водя смартфоном по сторонам, Вера поняла, что никакой кошки никогда не было. Тут, кажется, вовсе никто не живёт.
Беловы заглянули на кухню. Виталий чертыхнулся. Она была пуста. Пошли дальше.
— Может, просто уйдём? — спросила Вера.
— Раз пришли, то должны всё проверить, — упрямо бросил Виталий.
— Тогда я пойду…
— Я тебя убью, — пообещал Виталий.
В большой комнате их ждали штабеля чего-то, обёрнутого в полупрозрачную плёнку. Вера решила, что это какие-то материалы для отделки, может, половое покрытие, но когда подошла ближе, то поняла свою ошибку. До самого потолка комната была наполнена Олегами, его точными копиями, одетыми в одинаковую одежду. Олеги не походили на мертвецов, не походили и на спящих. Они просто неживые, подумала Вера.
Виталий разорвал плёнку в нескольких местах и осмотрел головы Олеговых копий.
— Они одинаковые. И холодные, — сказал он и посмотрел на Веру. — Что тут происходит?
Она помотала головой. И наконец её стошнило.
— Кого я убил? — спросил Виталий, уже ни к кому не обращаясь.
Вера его не слышала, в этот момент она была уже у двери. Выскочив в рекреацию, побежала обратно. Неслась по лестницам, рискуя оступиться и упасть, пока не достигла своей квартиры, убежища, которое мечтала обустроить наилучшим образом. Теперь Вера чётко понимала, что её мечта не более чем утопия. И что предопределению невозможно сопротивляться.
Виталий вернулся домой немного позже. Она успела переодеться, муж, не говоря ни слова, тоже привёл себя в порядок и помог ей готовить ужин. Причёсанные, собранные, взволнованные, они и сели за кухонный стол под жёлтой лампой.
Бежала секундная стрелка на циферблате настенных часов, и Вера думала, что они в шаге от обретения счастья. Виталий был полностью согласен с женой и смотрел на неё влажными глазами. Этот взгляд напомнил ей взгляд умирающего, забитого насмерть мальчишками щенка. Вера увидела себя стоящей над ним. За те последние две минуты, что ему оставались, он больше не кричал, только мелко трясся и раскрывал розовый рот, из которого сочилась кровь. Тогда, в детстве, она ничего не могла сделать. Зато могла сейчас. Сделав короткий замах, она вонзила себе в правую щёку ногти правой руки и стала поворачивать кисть.
В дверь постучали, всё так же аккуратно. Вера поднялась, одёрнула чуть задравшуюся блузку и пошла открывать. С её щеки капало, но на такую мелочь не стоило обращать внимания.
Распахнув дверь, Вера зажмурилась от белого света, ударившего из проёма.
Олег приветливо улыбался.
— Мне нужна только ваша любовь, — сказал он.
Редактор Никита Барков
Другая современная литература: chtivo.spb.ru