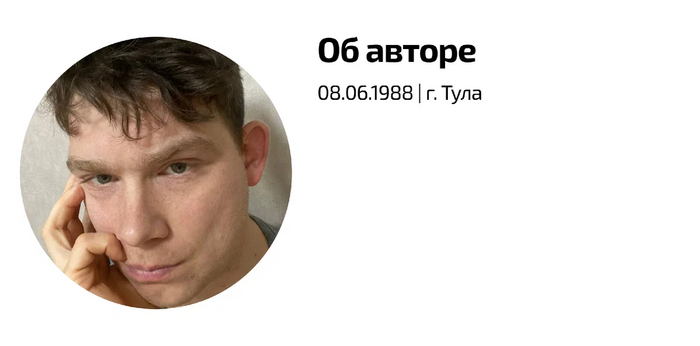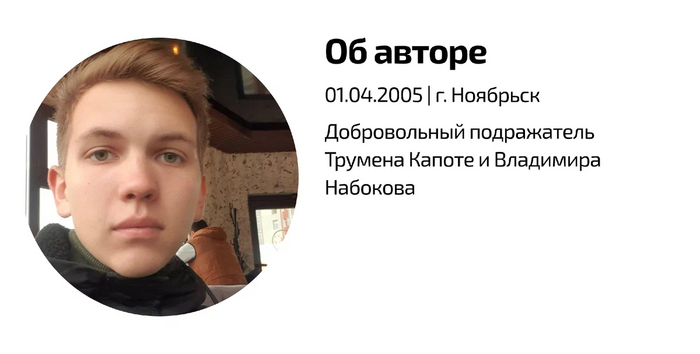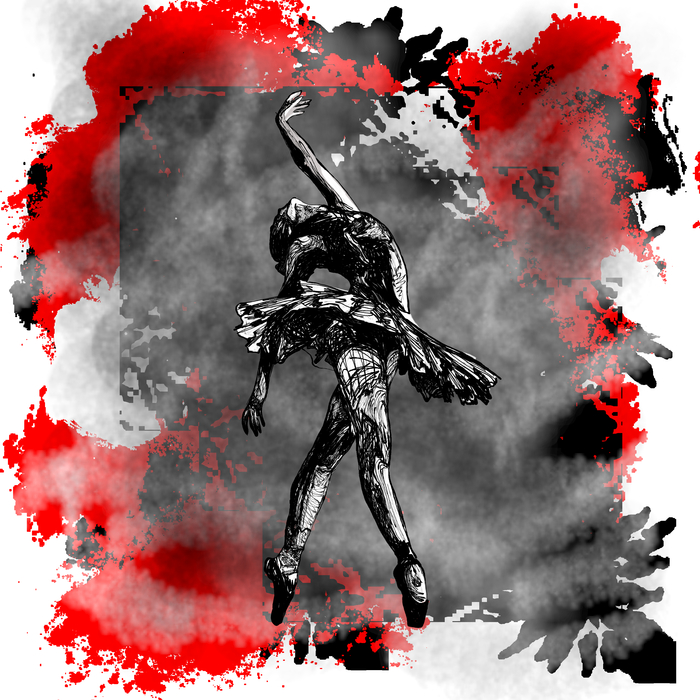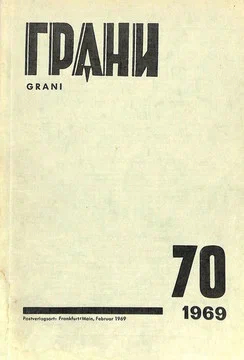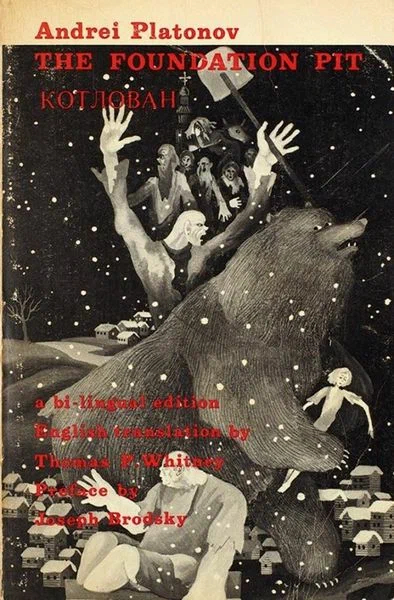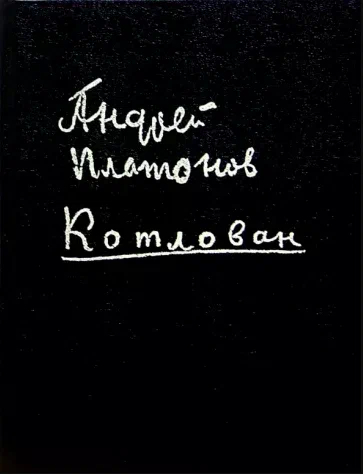Принцесса | Вячеслав Немиров
В парке дождём смыло мост. Я этот мост хорошо знал, он был перекинут через небольшую речку Серебрянку в парке. Её так легко было перепутать с ручьём. Там всегда водилось много плавунцов. А пару месяцев назад прошёл злющий ливень, и мост смыло. Как узнал об этом, понял: никак не могу его вспомнить. Не могу даже примерно сказать, какого цвета он был и был ли вообще выкрашен, не могу припомнить, был ли он из дерева или из металла, или соткан из моих снов добрыми феями, у которых крылья похожи на батистовые носовые платочки.
Сперва я очень расстраивался из-за того, что мост я забыл. Потом крепко обиделся, не знаю, на что конкретно. Наверное, на всё сразу. На свою память, на то, что дожди иногда смывают мосты (именно вот на это «иногда» — если бы всегда смывали или никогда, то ещё ничего, привыкнуть можно, а нерегулярность явления ужасает своей несправедливостью), на дедушку, который так часто водил меня в детстве в этот парк, что мост примелькался, начисто потеряв вещественный образ, превратившись в безликую функцию. Вместе с обидой пришло озлобление на всё вокруг. Послал нахуй соседа по общежитию, за что получил, а затем и сам дал ему по морде, расстался с женщиной (давно пора было), одну ночь проспал в зале ожидания Савёловского вокзала и очень неискренне извинился перед соседом. Последнее — самое гадкое. Он был добрым, простил меня и даже накормил пельменями, их он всегда варил очень вкусно: с лаврушкой и другой всячиной.
Вот посылаешь человека нахуй, бьёшь его, потом извиняешься с фигой в кармане, а тебя ещё и пельменями кормят, думал я ночью. Ворочался, терпеть себя не мог, телу хотелось бросить такую грязненькую душонку, в нём прописавшуюся, но душонка вцепилась намертво. Чуть не заплакал.
Утро было развесёлым, ветер игрался, как школьник, в кронах деревьев, старики просыпались с утренней эрекцией к немалому удивлению своих старух, а на северной окраине города, как позже поговаривали, в небо от радости улетел кот, умудрившийся где-то украсть полпалки колбасы. Словом, жить хотелось в то утро. Мне в голову пришла мысль, что можно попробовать самому наладить мост через Серебрянку, новый и добротный. За утренним чаем я поделился этой идеей с соседом. Он уже и забыл о том, как совсем недавно лупил меня по щекам своими вологодскими кулачищами (насчёт вологодских я немножко привираю, он не прямо из Вологды, а из Тотьмы, но это рядом; представляете, там река полгода течёт в одну сторону, а полгода — в другую), и задорно отозвался:
— Дело хорошее, только ничего у тебя не получится.
— Это почему?
— Да потому что ты рохля, ты тяжелее кисточки ничего в руке не держал. Ты же, можно сказать, дитя большого города, для вас гвоздь и доска — краснокнижные звери. А дюбель для тебя, наверное, — сводный брат Дюрера, — тут он крякнул от остроумности своего каламбура.
На самом деле он был прав. Куда мне мосты наводить? Зато я могу мост нарисовать. Вот поеду и хотя бы простенько так, карандашиком, набросаю мост, любой, какой захочу. И будет у меня рисунок, а он намного надёжнее памяти, подумал я.
Получалось вполне прилично. У меня всегда неплохо рисуется, я только поэтому и поступил в художественное училище. Я не художник ни в жизни, ни в искусстве (если вообще это можно/нужно разделять). Я просто хорошо рисую карандашом и чуть похуже красками.
Речка на бумаге казалась даже живее, чем в реальности, а мост был — загляденье, я для красоты представил его как сказочную версию Золотых Ворот в США.
— Простите, а вы архитектор?
Это был примерно пятнадцатый по популярности вопрос из тех, что мне задавали случайные свидетели моего ремесла, поэтому я не обернулся на мягонький, как свежий белый хлебушек, от которого хотелось отщипнуть поскорее чуточку, голос.
— Не-е, просто рисовальщик, скромный токарь карандаша и сапожник масла, — видно, не только мой сосед в это утро отличался остроумием, я даже себя похвалил за так изящно и неожиданно обронённые слова. Как если бы уронил при всех из кармана 5000 рублей и не поднял бы не из-за того, что я весь из себя богатый, а просто по доброте — кому-нибудь, мол, пригодятся. Вот как хорошо я чувствовал себя в это утро!
— Правда, здорово получается. Намного лучше того моста, который тут был.
Я круто обернулся.
— А вы его помните? А каким он был? — пока спрашивал, осознал, насколько неприлично вот так набрасываться с вопросами, и извинительно добавил: — Я просто совсем его не помню…
— Ой, знаете, он такой обычный был, почти деревенский, как вот… вы были в Царицыне? Вот там похожие мостики, они деревянные такие, а перила у них железные. Но у этого моста перила были почему-то только с одной стороны. Отломали, наверное. И ещё там такая дырка была посередине, доска треснула, мне всегда было очень страшно ходить по нему, думала: нога застрянет, и буду тут часа три сидеть, никому не нужная.
Вот так она начала. А я сидел, одетый в растянутые треники и дырявую футболку «Секс Пистолз», и слушал её красоту. Я, знаете, так считаю: красоту мы воспринимаем ушами. Есть какая-то ультразвуковая частота (доступная и глухим от рождения, в медицинском плане), на которой красивые люди и вещи восхитительно поют, а все вокруг слушают и отзываются едва различимым даже на этой ультразвуковой частоте плачем. Для меня красота — очень грустная штука. Какой бы она ни была здоровой и источающей энергию жизни, красота всегда поёт о скорой своей смерти, о том, что вот ещё немного, и она зачахнет, отцветёт. В этом её особенная ценность. Если вам печально думать, как что-то умрёт, то это что-то истинно красиво.
Она стала для меня даже больше, чем «что-то». Она была что-то с чем-то! Наверняка, в то щемяще-чистое утро мне благоволили тайные течения удачи, и она не убежала по срочным делам, когда я, наспех скомкав свой рисунок, предложил немножко погулять вместе. Она даже вроде не слишком сильно стеснялась моего откровенно квазимодьего наряда.
Я угадал: она была меня старше. На девять лет. Я узнавал у неё только какие-то общие моменты: местная/не местная — местная, кем работает — репетитором по литовскому языку (представьте себе!), и всё такое прочее. Она же спрашивала обо мне больше: долго ли я учился рисовать — я вообще не учился, взял в детстве карандаш, и давай малевать всё подряд, так кто-то берёт фотоаппарат и начинает фотографировать мамупапубабушкудедушкуфонарьсобакумашинусоседейкрыльцоещёсобакудвухкошекдачугрибы, и всё это вне правил композиции и без других умностей; нравится ли мне учиться — мне нравилось именно то, что я ничему не учился; как я планирую зарабатывать — я не планировал, а зарабатывал: порисовывал что-нибудь на заказ, иногда папа мне какую-то нетрудную работу подыскивал, он у меня в детском издательстве большой человек, так что множество детей и их экзальтированных мам лили слёзы умиления над моими собачками и ёжиками.
Я отвечал прозаично, а улыбался поэтично (то есть по-дурацки), но её это даже очаровывало. На один взмах крыла бабочки мне стало очень за неё грустно. Настолько, видимо, жизнь её была похожа на постный кисель однообразных дат и дел, что такое заурядное существо с необычной профессией, как я, вызывало в этой взрослой, на минуточку, женщине восторг маленькой принцессы, перед которой показывают фортеля потрёпанные жизнью мудрецы, собранные со всего королевства.
— Скажите, а вы не принцесса? — с едва скрываемой тоской, делавшей мою собеседницу ещё красивее, спросил я.
— Конечно, принцесса, — ответила она.
Потом мы шли к метро и видели, как с ветки на ветку перелетала странная птичка, маленькая, но очень неповоротливая. Нам с принцессой было в разные стороны: ей — на юг, а мне — на север. Но договорились ещё погулять, как-нибудь. Она записала мой номер.
На восьмой этаж общежития я влетел на невесомых крыльях предчувствия. Предчувствия любви. Сосед в это время заканчивал эскиз, получалось у него больно мудрёно: какая-то церковь подводная, крестный ход — нравилась ему вся эта символика. То, что я зашёл не через дверь, а через окно, его вообще не смутило. Он рассказывал, что его дед в дом заходил всегда только через трубу, а выходил через подвал. Когда я начал судорожно запихивать вещи в дорожные сумки, сосед ухмыльнулся: мол, опять на вокзал?
— Да на какой вокзал! Ты не понимаешь?! Мне в Африку надо! — я был не в себе.
— В ту Африку, которая «Чёрный континент»? И зачем? Там художникам работу давать будут? — к вечеру острить он стал лениво, больше был поглощён тем, что выводил закомары подводной церкви.
— Художника там скорее съедят, чем ему работу дадут. Не за этим! Тут такая женщина, ты себе не представляешь! Она, я не знаю, она… Принцесса! Правда, я тебе говорю, самая настоящая принцесса, которая вот так запросто гуляет по парку по утрам. Представляешь, эта женщина, она литовский преподаёт! Кто я вообще рядом с ней.
— А с чего ты решил, что ты рядом с ней? Раз вопрос. И к чему тут Африка? Два вопрос.
— Она мой номер записала, поэтому мне надо торопиться в Африку. Понимаешь, она такая… А я кто? Я кто? Рисую чёрт-те что и сижу здесь на кровати целыми днями, твой храп слушаю. А она литовский преподаёт! Её, представляешь, в университете литовскому научили! Я не знаю… я сегодня рядом с ней шёл — выгляжу как люмпен, говорю как маргинал. Мне нужно срочно в Африку, я должен убить слона или пожить в каком-нибудь племени, хотя бы стать освободителем небольшого угнетённого народа и войти в кабинет министров новой республики, пускай на пару денёчков, так даже интереснее, если на пару денёчков, ещё для охоты на гиппопотама-людоеда время останется! Потому что только так я себя рядом с принцессой ничтожеством чувствовать не буду. Она как Ахматова! Лучше, чем Ахматова. А я ни секунды не Гумилёв, мне нужно срочно «огумилёвиться», понимаешь?
— Ну вот, да, теперь, кажется, понимаю, — сосед дорисовал закомары и начал убирать эскиз, — только одно говорю сразу, так сказать, в качестве константы: денег я тебе на Африку не дам.
Как я его ни упрашивал в тот вечер, денег он мне не дал ни копейки. И слава богу, что не дал ни копейки, потому что если бы дал, к примеру, три копейки (а он мог!), было бы ещё унизительнее. А на следующий вечер она позвонила, и смысла в поездке в Африку уже не было. Пришлось ограничиться тем, что на встречу я оделся приличнее, чем в прошлый раз.
Отмечу, что я много раз её рисовал. Но в этом не будет никакой драмы или сюжета про тонко чувствующего художника. Когда я рисовал её, это была просто очень трудозатратная фотография, даже чуть похуже фотографии, — по портретной части я плаваю до сих пор. Но рисунки приводили её в восторг, фокусы впечатляли. Иногда я даже не верил, что она взрослая. Мы гуляли с ней по городу по-подростковому долго, она краснела больше моего, когда мы случайно соприкасались ногами под столиком в кафе. И это при том, что я от природы бледный (у меня дедушка — ирландский коммунист, переехавший в Советский Союз; как вы понимаете, при разговоре о бледности кожи ключевое слово — «ирландский»), а она — смуглая.
Мы катались на велосипедах, взятых напрокат, ходили в зоопарк и на выставки, в кино; я познакомил её с соседом по общежитию, они друг другу понравились; она шутя учила меня литовскому, а я специально коверкал слова, стараясь всё свести к матерщине. Она знала наизусть стихотворения очень многих литовских поэтов, читала и сразу переводила — у всех них были такие имена, какие, мне думалось, бывают только в третьесортных фэнтези-романах, в голове не укладывалось, что может жить на свете человек по имени Лудакримас Просоцирпимас (или что-то вроде того), да ещё и хорошие стихи писать на полном серьёзе. Один из тех её поэтов мне особенно запомнился верлибром, который я не могу точно процитировать, потому что на русский его никто официально не переводил. Было там примерно так:
Зеркало перед ребёнком
В нём
Кричит безутешная мать
Оплакивает случившееся
Боится невозможного
И нет для неё существа прекраснее
Как нет для лужи
Отражения чище
Чем одинокий лебедь
Скрывающийся в небесных складках
Испуганный дальним выстрелом
Я к поэзии всегда был так же глух, как к живописи, умел только транслировать слышанное и виденное, поэтому наверняка в моём пересказе это стихотворение кажется жалким и относится к оригиналу весьма опосредованно. Но тогда, когда она прочитала его и перевела, душа моя тихонечко вылезла через ухо, на цыпочках вышла за дверь, горько-горько там заплакала и очень нескоро вернулась.
Месяца играли в эстафету, передав друг другу палочку уже несколько раз, а мы так и не узнали имён друг друга. Она была «Ваше высочество», а я был «Вы». Однажды «Ваше высочество» и «Вы» поцеловались. Я не помню, где это было, — значит, на том самом мосту. У неё была новая стрижка, коротенькая-коротенькая, ещё чуть-чуть короче, и я бы не удивился, если бы её начали дразнить мальчишки.
Видно было, что очень ей была дорога новая длина волос, такая непривычная причёска, и если бы кто захотел мою принцессу ограбить, то она отдала бы всё, лишь бы не забрали эту стрижку.
Ветер или кто-то на него похожий выбил один локон из их стройного ряда, я потянулся поправить и ощутил, что таю — по спине пробежала электрическая змейка, а ладони, так кстати оказавшиеся на её талии, стали восковыми (я испугался, что и её талия стала восковой, и мы, расплавившись, прилипнем друг к другу — я, можно сказать, любил её, но к такому был не готов). Вот так и стояли мы над речкой Серебрянкой, в которой водилось много плавунцов.
Спустя пару десятков механически рисуемых, одинаковых, как незнакомые лица, портретов случился день, когда мы лежали у неё дома. Вечер показывал язык нам в окно, а мы, как всех учили ещё в детском саду, не обращали на дурака внимания. Нам, полутора, было хорошо. Почему полутора? Потому что я чувствовал: одной её половине нравилось лежать со мной, а другая её половина будто проглотила пудовую гирю. И вот её вторая половина, отделившись от первой, заходила по комнате.
— Знаешь, скоро я уеду.
— Далеко? — спросил я, аккуратно целуя в шею ту, первую, половину, что всё ещё лежала рядом.
— Далеко. В другой город. И город этот в Литве.
— Ого, даже так, а почему? — я особенно не испугался. Пускай эта нудная половина уезжает хоть в Румынию, мне было всё равно.
— Потому что, — вторая половина резко подошла, забрала первую половину, и они уже вдвоём стали ходить по комнате.
— Так, слушай, почему? Я ничего не понимаю, — это была чистая правда.
— Дурачок, ну подумай сам, — внезапно отозвалась до того момента бессловесная половина. — Думаешь, я просто так принцесса? Вот скажи, как люди становятся принцессами?
— Как-как… — я ощущал скальпельный холод подвоха. — От королей рождаются.
— А ещё?
— Не знаю…
— Женятся на принцах, — это половины сказали хором.
— Нихуя себе… — только и вырвалось у меня.
С тех пор я не разговаривал почти ни с кем год и даже планировал уходить в монастырь, но передумал.
Однажды на какой-то из выставок, куда не ходит никто, кроме самих художников, я познакомился с девчонкой, которая выглядела на пятнадцать, будучи на деле тридцатилетней. Оказалось, что она знала мою принцессу со школы, были они не очень близкими, но давними приятельницами. От этой девчонки я и услышал, что моя принцесса никакая не принцесса, а Кондратьева Анастасия. Услышал, что всю школу она только и мечтала быть переводчицей, ездить по разным странам, а при распределении в вузе ей достался чертовски сложный и никому не нужный литовский язык — она любила его так, как разбойник любит крест, на котором его должны распять. Услышал, что с парнем она впервые поцеловалась в 23 года. Он и стал её принцем. Услышал, что в те мои бессонные (это была счастливая бессонница!) восемь месяцев он лечился от кокаиновой зависимости, а потом увёз принцессу не в Литву, а в Швейцарию, где у его родителей был бизнес.
А через полгода в библиотеке иностранной литературы я разговорился с заведующей отделом Прибалтики. Женщина вспомнила тоненькую, почти прозрачную девушку, с большими глазами, наследницу какого-то древнего ливонского рода, постоянно бравшую книги на литовском. И напоследок сказала, что та насовсем уехала к больному брату в США.
Потом я слышал, что «Её высочество» на самом деле была авантюристкой-обманщицей, притворявшейся богатой принцессой, чтобы грабить русских олигархов. На другой раз один шапочный знакомый, весьма разбиравшийся в теме, рассказал мне, что последний набор на литовский язык во всех инязах страны был в каком-то совсем уж бородатом году, и выходило, что никак моя принцесса не могла тогда учиться — не в пять же лет она в институт поступила.
Я слышал, что её видели в Каире верхом на белом верблюде, в Мексике и Уругвае, в Польше в составе отряда, искавшего золото Третьего рейха, на минеральных водах в Чехии, в казино Монте-Карло, и всюду одну, объяснявшуюся на никому не понятном языке. Говорили, что в каждом новом городе она ходит по выставкам и со странным акцентом спрашивает о каком-то художнике, про которого никто ничего не знает.
А мой сосед говорит, что я просто ёбнулся.
Рассказ «Принцесса» вышел в сборнике «А где же Слава?» (Чтиво, 2022). Читайте демо-версию и загружайте полную версию на официальной странице книги.